"Но ведь в памяти живет природа, которую я видел и не замечал… Я же вспоминаю сейчас, как мы с отцом шли по осеннему бульвару и на голых сучьях лип после последних дождей висели капли и не падали, словно ждали, когда их тронет морозцем, и на газонах тихо тлели костры, и грустно пахло горьковатым дымком… Вот что значат дедушкины слова: "Все возвращается на круги своя". Хорошо, что я сразу возвращаюсь на эти круги и уже не прозеваю ни весны, ни зимы, ни осени, ни лета. А дедушка, и отец, и археолог тоже хороши… только говорят, а помочь возвратиться не могут. Спасибо музыке…"
Вдруг музыка кончилась, и тут же стена ливня просветлела так, что стали заметны дождинки, и я не прозевал мгновенья, когда последние из них прошуршали в листве яблонь, потом в кустах, потом капнули на ботву и всплеснулись в луже, а с крыши на землю, как эхо дождя, стекали, журча, светлые струйки…
Нам сразу стало холодно под тяжелым намокшим плащом.
- Коллега! Как хорошо! Правда? - сказал я, радуясь непрошедшему удивлению.
- Как они сочиняют такую музыку? Откуда они ев берут? - спросил Жуков.
- Додумаемся! - уверенно пообещал я. - У нас с вами работы и загадок хватит. Только давай на "ты" и не зови меня шефом. Заводи джаз, а я порублю дрова. Горох-то растет!
На стебельках гороха, прибитых дождем к земле, уже было по две пары похожих на зеленые крылышки листьев.
22
Мы шли босиком по теплым лужам, и я любовался на просыхающие крыши изб, на заборы в темных подтеках, на зыбкий пар над прогретой солнцем дорогой, на прибитую траву - на весь мир вокруг, зеленый, голубой, прохладный, радостно замерший после дождя. Очки я больше не надевал, чтобы все было так, как оно есть.
- Я люблю ходить по мастерским, но и отсюда прогоняют, - сказал Жуков, когда мы забрели во двор колхозной мастерской. Здесь ремонтировали тракторы, грузовики и комбайны, и еще всякие машины, названия которых я не знал.
- Начнется уборка, попрошусь на сенокопнитель или грузчиком на "ЗИЛ", - размечтался Жуков, - а если не пустят, сбегу в город.
- Напрасно, - сказал я, - тут, знаешь, сколько дел? Все автоматизировать нужно. Читал про лазеры и мазеры?
- При чем тут деревня? - Жуков сплюнул с досадой. - Тут к трактору близко не допускают, не то что к лазерам и мазерам!
- Все равно надо бороться и предлагать! Конечно, от школы никуда не денешься, но потом - институт и, смотришь, ты изобретаешь комбайн-лазер. Его луч срезает пшеницу. Р-раз - и все поле повалилось. Только собирай.
- А пшеница же загорится от луча? А?
- Этого я не учел, - сказал я, - но додуматься можно.
Мы подошли к кузнице. Возле нее подковывали лошадь.
- Все, родимая, пошла! - сказал кузнец, взъерошив рыжую челку лошади. И лошадь пошла, осторожно припадая на подкованную ногу. Наверно, она чувствовала себя, как я в новых ботинках. Потом ей надоело хромать, она подумала, что, конечно, жалко пачкать обновку, но ничего не поделаешь: все-таки веселее пробежаться рысью, чем думать без конца о новой подкове, - и затанцевала на мокрой траве, заржав от радости.
А из кузницы доносились удары, тяжелые и приглушенные, потом звонкие и частые, с отстуком. Мы с Жуковым заглянули в дверь, и нас обдало жаром и ослепило раскаленным добела искристым углем.
Два кузнеца ковали какую-то деталь, похожую на лапу. Они не замечали нас, и лица у них были разгоряченные и немного торжественные. Я загляделся на них. И сказал Жукову, с завистью смотревшему на кузнецов:
- Да… археолог прав… тут есть опасность… Что будет с кузнецами, когда их место займут роботы? Они же затоскуют. Что тогда? Я об этом не перестаю думать. Я сам люблю рубить дрова. Надо сделать так, чтобы человеку при сплошной автоматизации было приятно быть человеком. Ничего. Что-нибудь придумаем… Давай попросим у них поковать…
- Что ты? - шикнул на меня Жуков. - К ним сейчас не подходи! В другой раз. Пошли.
Мы немного побродили по двору мастерской, забирались на место комбайнера, вертели штурвал, а у меня в глазах все еще прыгали золотистые искорки, оттого что я долго смотрел на раскаленный металл, и в памяти возникала музыка тяжелых и звонких с перестуком ударов по наковальне.
Потом Жуков предложил сходить на ферму взглянуть на Мордая - племенного быка, которого должны были увезти на выставку.
Бык стоял на огороженной березовыми жердями площадке и, казалось, дремал - огромный, черный, лоснящийся на солнце, с кольцом в носу и с курчавой челкой между широко расставленными рогами.
- Это, наверно, таких быков брали за рога наши прадеды? - сказал я.
- Его грузовиком не стронешь с места. Мордай! Ну-ка, поворачивайся! - Жуков перелез через изгородь, схватил быка за рога, но тот даже не вздрогнул и смотрел на нас добрыми глазищами и моргал смешными выгоревшими ресницами. А с губы у него капала пена.
- Жуков! Вон красный платок какой-то! Это - мулета, а ты похож на матадора. Давай его расшевелим. - Я снял платок с жерди и тоже перелез через изгородь. - Помнишь, в кино? Вот так делал матадор. Тор-ро! Тор-ро!
Мордай уставился на красный платок, который я растянул во всю ширину рук, как мулету, но не тронулся с места и совсем не злился.
Я семенил перед ним на цыпочках, словно матадор, припадал на одно колено, чувствуя и ужас, и восторг и готовясь ловко увернуться, и кричал до хрипоты: "Торо! Торо! Мордай!" Но огромный бык добродушно пережевывал жвачку, а Жуков хохотал.
Тогда я тоже засмеялся и погладил быка по мощному загривку, а он краем рта захватил платок, и я не мог его вырвать.
Тут в дверях фермы показалась девушка в белом халате, увидела, как Мордай жует красный платок, и ахнула. Жуков крикнул:
- Бежим!
А я не знал, удирать или удерживать ускользающую из рук мулету.
Девушка подбежала, стукнула меня по плечу и, чуть не плача, стала уговаривать Мордая:
- Отдавай! Открой рот! Платок новенький! А тебя, Жуков, выселим из колхоза.
- Это я виноват, - сказал я. - Поверьте, не ожидал…
Девушка наконец вырвала у Мордая изжеванный наполовину платок, хлестнула им меня по рукам и бросилась за Жуковым.
Я ее перегнал, мы с Жуковым забежали за угол, перелезли через какой-то забор, причем я порвал рубаху и оцарапал грудь, и притаились.
- Она думает, это я тебя подначил дразнить Мордая, - сказал Жуков, отдышавшись.
- Я ей докажу, не бойся… - Я сам с трудом дышал после такой пробежки. - Красивый какой бык… Почему он не злился? Может, дальтонизм у него?
- Ты тоже хорош. Но красиво получилось… Торо! Торо! Мы лучше нашего бычка потренируем на красное! - сказал Жуков, выводя меня огородами к дедушкиному дому.
23
Вечером мы оделись во все чистое, обулись и без двадцати девять подошли к клубу. Я нес проигрыватель с длинным проводом, а Жуков две пластинки: "Героическую" и "Пятую" симфонии Бетховена.
На дверях клуба висело объявление о собрании.
У крыльца стояла веселая толпа колхозников. Некоторые, увидев нас, зашептались.
- Все они хороши…
- Это он дедов внук?
- Гляди, несытый какой…
- Травиночка…
- А тоже туда же, к Мордаю. Настя рассказывала.
Я, не глядя ни на кого и не останавливаясь, прошмыгнул следом за Жуковым в клуб.
Сенашкин помогал очень строгой на вид женщине накрывать на стол красную скатерть.
Жуков встал в сторонке, а я залез на сцену и спросил у Сенашкина:
- Где у вас тут розетка? Здравствуйте.
- Здесь, - сказал он. - Учтите: двести двадцать вольт. Эх, помирать, так с музыкой. Налаживайте. Отступать некуда. И сами не бойтесь.
Он ушел, проводив нас за занавес. Я и сам волновался, когда присоединял к сети проигрыватель, а Жуков, кусая губы, то и дело сообщал мне:
- Входить начали, усаживаются. Все правление собралось.
В клубе было шумно от разговоров, смеха и стука передвигаемых стульев.
У меня все было готово. На диске лежала "Героическая симфония". На щитке горел красный глазок. Я решил сначала завести траурный марш, чтобы Сенашкину было легче каяться и хоронить свое преступление. "А потом можно завести самую радостную часть "Пятой" симфонии… она поможет ему снова стать человеком".
Зал уже был полон. Строгая женщина никак не могла утихомирить собравшихся и стучала ключом по графину. Сенашкин сидел в первом ряду, все время вытирая платком затылок. Он оглянулся в зал, громко кашлянул, но шум не затихал.
- Вот дед твой, - сказал Жуков.
И правда, дедушка, здороваясь со всеми, проходил между рядами на свободное место, а за ним археолог с какой-то девушкой.
Я обрадовался. Ведь зла у меня на него не было. Наоборот, я на себе проверил правильность его слов, но доказать ему, что кибернетика вместе с музыкой великая сила, было необходимо.
- Начинай. А то они целый час кудахтать будут, - сказал Жуков.
- Учти, такого опыта еще не было в нашей эре, - шепнул я и нажал кнопку.
Наверно, когда зазвучала музыка, все подумали, что это им послышалось, но гул стал затихать, я сделал звук погромче, и скоро только тихая и скорбная мелодия была слышна в зале клуба.
Сидевшие в президиуме, недоумевая, посмотрели в нашу сторону. Многие в зале привстали с мест, еще немного - и посыпались бы вопросы с шуточками, хотя и мне, и Жукову, и всем, конечно, жутковато стало от музыки, и тогда Сенашкин тяжело поднялся на сцену и сказал:
- Товарищи!.. Кого, думаете, хороним? Хороним бессменного снабженца вашего колхоза - Сенашкина! - говорил он медленно, и даже не говорил, а как-то надсадно выдыхал слова. - Шесть лет служил он вам верой и правдой… пока не потерял совесть… и… нет его! - тут музыка зазвучала так высоко, пронзительно и жалостно, что две женщины в первом ряду поднесли к глазам платки, да и я сам чуть не заплакал, как будто снабженца взаправду не стало.
- Нет его! Ходит среди вас живой, как говорится, труп… а того Сенашкина, который все силы отдавал колхозу… еще раз подчеркиваю… нету… Крышка!
- Да что с тобой, Кириллыч? - испуганно выкрикнули из зала, и все заволновались.
Сенашкин высморкался и замолчал, прислушиваясь к музыке, как будто ему хотелось подольше хоронить себя на глазах обманутых колхозников.
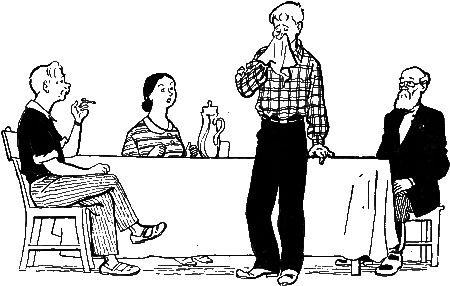
"А вдруг ему так тяжело, что он не выдержит… Писали же, как некоторые люди внушают себе болезнь и умирают…" - подумал я и сделал звук потише.
"Пятую" еще нельзя было ставить: ведь Сенашкин сознался не до конца.
Начал он сознаваться издалека, спросив у всех:
- Почему погиб Сенашкин? - и, собравшись с силами, выпалил одним духом: - Согласно кибернетике произошло так: сняли мы первые огурцы в парниках… - Я схватился за голову: "Ну при чем тут кибернетика?" - И тогда же часть пропили! - В зале ахнули и зашумели. - Тихо! Не хочу вину на другого сваливать. Но разве не мог Сенашкин душу вытрясти из того, кто его подбил на подлость? Мог. Но не вытряс. И погиб. Так почему? Расскажу, чтобы другим неповадно было и чтобы знали, как погибает в подлости человек. Мозги наши, значит, состоят из нейронов. В них хранится информация, как нам себя вести в жизни. Называется эта информация совестью… Правильно?
- Валяй дальше! Без тебя знаем, что такое совесть! - крикнули из зала.
- Так вот. Подлец один, пусть сам сознается, запрограммировал Сенашкина. А сам Сенашкин, еще больший подлец, заглушил обратную связь, которая его ошибки всю жизнь вовремя исправляла, и стал глушить совесть водкой… Но не было житья. В глаза вам не смотрел… И спасибо ей! - он посмотрел в нашу сторону и рассказал, как в критическую минуту своей жизни, когда боялся признаться людям, вдруг услышал "Лунную сонату". - Спасибо музыке! Проняла до мозга костей и сказала: "Признайся! Умри в глазах людей, Сенашкин, но возродись!"
Я хлопнул два раза в ладоши, подумав, что после этих героических слов все должны зааплодировать, но в зале было тихо-тихо. И Сенашкин молчал.
Тогда я быстро переменил пластинку и поставил самую радостную часть "Пятой симфонии", и мне показалось: весь зал легко вздохнул, как будто гром громыхнул и теплый дождь пролился после предгрозового мрака.
- И еще спасибо деду Степану и его внуку за то, что правильно меня запрограммировали, - сказал Сенашкин, - а мальчонка с точки зрения кибернетики объяснил, как и до чего я дошел. И я говорю: судите меня. Все приму…
- Занятно? - спросил я Жукова. - Он про себя говорит не "Сенашкин", а "я". Значит, он возродился.
- На любую работу согласен, - продолжал Сенашкин. - А жить с вами и врать я не мог. И гадости этой в рот не беру и не возьму.
Сенашкин сошел со сцены и встал, потупив голову, около окна.
24
Я думал, что все сразу заспорят и примутся ругать Сенашкина, но в зале было тихо, и я не стал выключать проигрыватель.
Наверное, колхозников так же, как раньше меня, музыка, не спрашивая, нравится она или нет, просто захватила и заставила себя слушать.
Но вот когда музыка кончилась, после минутного молчания поднялся настоящий шум. Выступило несколько человек, и все беспощадно ругали Сенашкина. Другие что-то кричали из зала. Разобрать их слова было невозможно. А Сенашкин все стоял, ссутулившись, около окна и слушал. Жуков что-то торопливо записывал на бумажке.
Тут женщина из президиума, когда в зале стало немного тише, сказала:
- Ну, что ж! Все правильно говорили. И я скажу: нелегко ему было признаться. Трудней, чем пропить общее добро. А что стоило задуматься? Мы вот честные люди и живем честно, и про эту обратную связь ничего не слышали, и все равно, конечно, полезно узнать, что иногда с совестью происходит по научному объяснению. Если согласны, постановим так: "Под суд не отдавать, как осознавшего и первый раз предавшего себя и других. А ущерб возместить. И в снабженцах оставить. Кто "за"?
Сенашкин как-то съежился в ожидании, но "за" проголосовали все. Даже археолог и его девушка.
- Порешили, - сказала женщина и грозно позвала: - Ляпунов! Иди, иди на глаза. Не прячься. Догадываемся, кто второй!..
Но Ляпунов не выходил. Наверно, он струсил и смылся из клуба.
- Ладно, товарищи, и ему отвечать придется. Видать, совести у этого человека нет больше ни на грош. - Она поманила меня к себе, отдернув занавес, и я подошел к столу, стараясь смотреть в одну точку. - Думаю, надо нам сказать спасибо товарищу…
- Жукову и Егору, - подсказал я.
- Ну, Жукова еще рано хвалить. Озорной больно, а вот тебе спасибо. За хорошую музыку.
- А я предлагаю, - вдруг сказала с места Настя, и я с ужасом ждал, что она сейчас предложит наказать нас за платок и раздразнивание быка. - Я предлагаю начислить ему трудодни за помощь в ликвидации ошибок снабженца колхоза!
Все захохотали. Настя покраснела, а я с радостью разглядел платок на ее плечах.
- И еще предлагаю выписывать ему за пользу, которую он еще принесет колхозу, сливки. Вон он какой худенький!
- Мне не надо сливок и трудодней, - сказал я, осмелев. - Это не моя музыка, а Бетховена. Скажите спасибо Бетховену. Он, глухой, сочинял для человечества! И хотел, чтобы мы были красивыми людьми. Жуков читал про это в книжке. А кибернетика - высшее достижение разума!.. - и в тот момент, когда я хотел пофантазировать насчет внедрения кибернетики в сельскую жизнь, голос у меня сорвался от волнения и пропали все слова.
Выручил меня Жуков. Он неожиданно вышел на сцену и тоже, волнуясь и часто заглядывая в бумажку, рассказал о наших опытах с музыкой и горохом и что из этого может выйти при полной звукофикации.
Потом он потребовал, чтобы ребят учили водить тракторы и машины, а в школе организовали кружок по кибернетике. Иначе и он, и многие другие убегут в город от скуки. Ребята и девчонки после этих слов закричали с мест:
- Давно пора!
- От вас не дождешься!
- Не желаем валяться на печи, как тыщу лет назад!
- Только обещаете!
Какая-то бабушка спросила у Жукова:
- А редиска будет расти под музыку?
Жуков хотел ответить, но ему помешала Настя, поднявшаяся на сцену. Она пообещала, что комсомольцы сотрут рано или поздно грань между городом и деревней, а я подумал: "С водопроводом плохо у них дело. Хуже, чем в древнем Риме!" - и вспомнил, как, опускаясь на дно, сначала звонко, потом все глуше гремит ведро, отскакивая от сруба колодца, и медленно вытягивается сухая цепь и становится влажной, и вот уже дышит на тебя студеным холодом подернутый рябью кружок воды…
"Водопровод необходим, конечно, а колодец можно оставить для удовольствия", - решил я.
Настя уже говорила про Бетховена:
- Я читала, как трудно было этому человеку. Он не слышал того, что писал, и того, о чем писал. Это страшно. И тогда ему не могли помочь. А теперь мы разве не можем помочь деду Аленкину? Тут звучала музыка, а он, бедняга, спрашивает: "Ась? Ась?" - До каких же пор он будет плохо слышать?
Я посмотрел на дедушку, сидевшего в первом ряду, который, приложив ладонь к уху, пытался разобрать, о чем это говорится со сцены.
- Почему мы ему ничего не подарили, когда он уходил на пенсию? Жалко было? Я предлагаю купить деду Аленкину слуховой аппарат. Он тоже хочет слышать то, что слышим мы: и музыку, и смех, и кукареку! Кроме того, дед работает сторожем в сельпо!
Тут снова все рассмеялись и без долгих слов подняли руки. И мы с Жуковым подняли, и дед Аленкин тоже поднял, даже не догадываясь, за что он проголосовал.
Настя отвела меня и Жукова за занавес и сказала:
- Мордай повеселел. У него аппетит появился. Наверно, оттого, что вы его красным дразнили. А если бы не повеселел, я бы вам за платок знаете что сделала? Тореадоры нашлись!
25
Встал археолог и, перекричав всех, попросил слова.
- Товарищи! Я на вашем интересном собрании человек посторонний. Однако пришел сюда специально для того, чтобы сказать вам: стыдно! Да! Не удивляйтесь! Стыдно. Здесь увлекательно фантазировали, но я буду говорить о прошлом. В пяти километрах отсюда на земле вашего колхоза находится уникальный памятник русской старины. Деревянная церковь XVI века.
Когда я увидел это чудо, оно звучало для меня, как песня, перед которой бессильно время… перед которой… Я не могу не волноваться. Вот мы слушали здесь великую музыку, и я чувствовал ваше волнение. А знаете, что такое архитектура? Это - застывшая музыка! Взгляните на нее так, как вы слушали Бетховена - от всей души, и не будет у вас слов, чтобы выразить это… эту… и у меня нет слов…
Короче говоря, через вашу деревню должна пройти хорошая дорога. Проектировщики хотят снести церковь. Они экономят средства. Бульдозером р-раз - и нету! Им, видите ли, невыгодно вести дорогу в объезд. Тихо! Успокойтесь, товарищи. Этого, конечно, не будет.
И вы не должны оставаться в стороне от защиты чудесного памятника. Не должны, чтобы не было вам стыдно перед своими потомками. Я предлагаю послать от имени всех телеграмму в газету о готовящемся варварстве!