Попечитель, известный гистолог, не говорил по-французски, а Антон Карлович, невзирая на тридцатилетний стаж пребывания в России, не говорил по-русски. Директор гимназии оказался плохим переводчиком: из иностранных языков он знал только язык древних римлян и не менее древних афинян.
Двум почтенным педагогам так и не удалось сговориться, и они решили расстаться навсегда. Не помогли даже связи, и Антону Карловичу пришлось уступить чиновному гистологу и подать прошение об отставке.
Карл Иванович Форне по-русски говорил неплохо, но с сильным акцентом, знал наизусть "Полтаву" и даже умел ругаться, не всегда, впрочем, улавливая истинный смысл ругательств, к немалому удовольствию гимназистов.
Он был чрезвычайно близорук и, читая книгу, вынужден был приставлять ее к самому носу. В этот момент он не замечал ничего, что творится в классе. Ученики уже давно установили это обстоятельство экспериментальным путем и отвечали ему исключительно по шпаргалкам. Вызванный для ответа гимназист выходил к кафедре, в правой руке держал раскрытую книгу, а в левой распускал узкую, как змея, бумажную ленту, на которой мельчайшими буквами были написаны перевод, слова и даже спряжения излюбленных Карлом Ивановичем неправильных французских глаголов. Слушая удачные ответы гимназистов, педагог исполнялся убеждением в своей талантливости, довольно кивал круглой головой и говорил:
- Се бьен, се бьен!
Перед каждым уроком Форне класс коллективно обсуждал, вводится ли на предстоящий урок военное положение, или же на уроке будет "на земле мир, в человецех благоволение". Если большинству нужно было на уроке французского готовиться к латыни или писать заданные накануне сочинения по русскому языку, объявлялось в "человецех благоволение".
Тогда в классе воцарялась тишина, ученики вдохновенно читали французу стихи и прозу по шпаргалке, а оставшиеся без дела могли читать под партой Дюма или Хаггарда, рисовать карикатуры или каллиграфически выписывать все те же сентиментальные инициалы.
Но чаще всего объявлялось военное положение.
Класс развлекался.
Когда Форне входил в класс и занимал место на возвышении, в дальнем углу на губной гармошке кто-то немедленно заводил:
Во саду ли, в огороде…
Форне вскакивал и кричал:
- Какой музик в классе? Прекратить песопразие!
Но гармошка не умолкала. Тогда Форне, схватив классный журнал, семеня ногами, торопился к "Камчатке", прямо к последней парте, где сидели Беленко и Менчик, самые высокие парни в классе. На Камчатке Форне заставал полный порядок. Руки гимназистов лежали на верхней доске, и глаза ели начальство.
- Ви играйт? - кричал, оттопырив верхнюю губу, Форне.
Класс уже давно ждет, когда будет смешно.
- Что вы, Карл Иванович! - делал изумленное лицо Беленко. - На чем? Да я ни на чем не умею. Мне в детстве слон на ухо наступил.
Все фыркают.
- Ви мне дерзит! - кричит Форне.
Но в это время гармошка играет уже на первой парте.
Форне с быстротой учителя танцев поворачивается на каблуках и мчится к кафедре.
Но гармонь опять играет на "Камчатке". Форне останавливается. Он растерянно смотрит то в одну, то в другую сторону и, наконец, кричит:
- Все поднимайт рук!
Над классом взлетает лес гибких рук.
Но гармошка играет у печки.
Форне недоумевает.
Он до сих пор не может понять, что здесь пущена в ход самая примитивная техника. В классе две гармошки. Обе привязаны к длинным веревкам. Веревки привязаны к ногам. Двинуть ногой - и гармошка перелетает из конца в конец класса, оставаясь невидимой и неуловимой. Когда все поднимают руки, кто-нибудь один ныряет под парты и самоотверженно продолжает концерт.
Но этого мало шалунам. Класс разошелся. Теперь самые озорные из гимназистов бросаются помогать французу ловить гармошку.
Барсуков, гибкий и ловкий беззастенчивый плут с голубыми ясными глазами, первым спешит на помощь.
- Карл Иванович! Карл Иванович! Она здесь, здесь… на "Камчатке"!
Карл Иванович верит и мчится опять к "Камчатке". Барсуков с ловкой неловкостью спотыкается и падает прямо под ноги Карлу Ивановичу. Карл Иванович, боясь наступить на мальчика, оступается, скользит и грудью падает на ближнюю парту. Пенсне сваливается с носа. Педагог силится подняться. Все помогают.
А у печки вовсю задувает гармошка.
Карл Иванович взбешен.
Полная шея над крахмальным воротником набухла и налилась краской. Покраснела даже круглая, величиной с блюдце, лысина. Капля пота струится со лба на нос.
- Я больше не могуйт сделайт. Я иду к господин директор.
- Карл Иванович! Карл Иванович! Не надо жаловаться господину директору! - воет весь класс.
Но Карл Иванович уже мчится к дверям, а за ним через весь класс из дальнего угла несется большая белая птица из крепкой ватманской бумаги, с каплей жидкого клея на носу. Птица летит быстрее, чем мчится разъяренный педагог. Вот она уже на спине Карла Ивановича. Клей сделал свое дело, и Карл Иванович несется по коридору с большой белой птицей за плечами.
- За Карлом Ивановичем мчится Барсуков.
- Карл Иванович! Карл Иванович! - кричит он вслед. - Мы больше не будем!
Но Карл Иванович не слушает Барсукова. Тогда проказника осеняет гениальная мысль.
- Карл Иванович! Карл Иванович! Посмотрите на себя в зеркало! - кричит он французу.
Карл Иванович невольно останавливается у высокого стенного зеркала и только теперь замечает болтающиеся за плечами бумажные крылья, каплю пота, стекающую уже по подбородку, растрепанные волосы и недопустимо широко обнажившуюся лысину. Он решает про себя, что в таком виде, конечно, идти к господину директору нельзя, и уже тихими, связанными шагами поднимается по серой гранитной лестнице и бредет пустыми коридорами к учительской комнате.
Здесь отставной солдат, сторож Михей, со снисходительной заботливостью снимает со спины педагога белую птицу.
- Какие злые все дети! - говорит вслух Карл Иванович по-французски.
Он садится у окна и с грустью смотрит на пустой во время уроков гимназический двор и на далекую струю большой русской реки, о которой он когда-то знал только из географии. Он вспоминает маленький город в Провансе и свое собственное невеселое детство…
Глава третья
- Ребята, ребята! Я нового историка видел.
Андрей сидел верхом на кафедре и стучал толстым карандашом по чернильнице, вправленной в дубовую доску.
- Врешь, где видел?
- Он еще едет!
- Кто едет? Где едет?
- Ревизор едет! - заорали в классе.
- Вот святой крест! Лысый, с орденом и бритый. Сейчас к нам придет.
- Ребята, как встречать будем? Со скандалом или без оного?
- Давай учиним гала-представление! - предложил, выделывая балетное па, музыкант и танцор Казацкий. - Сразу бояться будет.
- А вдруг она симпатичная? - кривляясь, заявил розовощекий толстяк Женька Керн.
- Все педагоги одинаковы. Все равно колы будет ставить, - протянул Козявка.
- Такому дураку, как ты, - заявил Андрей, - только осел больше кола поставит - и то по ошибке. Давайте, ребята, подождем. Может быть, интересно читать будет. Наша Плешь по древней истории ни черта не смыслила.
- Подождем под дождем, - вяло поддержал Ливанов. - Мне папа говорил, что он красный. Его даже не хотели к нам в гимназию принимать.
- Чего же ты молчал, остолоп, попович миропомазанный? Может, в самом деле человек порядочный. Что-нибудь дельное расскажет. А то все войны да цари, цари да войны по Елпатьевскому.
- А ты что захотел - французскую революцию?
- Встать! - прокричал дежурный.
Новый педагог остановился на пороге и бросил быстрый взгляд на Ливанова, у которого замерло на губах слово "революция". Затем он галантно поклонился и быстро взошел на кафедру.
В воцарившейся небывалой в пятом классе тишине он осмотрел учеников долгим, внимательным взглядом и, записав в журнал число отсутствующих, начал:
- Так вот, господа, в предыдущем классе вам приходилось проходить курс истории древних народов. Перед вами прошли картины жизни Греции и Рима, которые, возникнув из небытия и поднявшись до вершин могущества и культуры, завершили свой путь, проложив дорогу для новых культур, новых народов, исторический путь которых пройдет перед вами на наших занятиях в текущем году. Мы начнем с раннего средневековья, когда только начала слагаться христианская культура передовых европейских народов.
История показывает нам, что на земле ничто не вечно, что власть, порядок, слава и сила каждой страны преходящи. Что для самого могущественного государства, как и для человека, есть утро, есть день, когда наступает расцвет народных сил, и есть вечер - закат и упадок. К счастью, мы живем в стране, которая еще переживает свое утро, которой еще предстоит вступить в период расцвета и настоящей культуры.
- Как? - не выдержал Матвеев, мечтавший на школьной скамье только о гусарском мундире и кавалерийских походах. - Разве сейчас наша страна не является самой сильной в мире? - Он встал, расправил плечи, сделал грудь колесом и откинул назад маленькую голову с рыжей шевелюрой. - Разве не находится Россия сейчас в расцвете могущества и славы?
Историк засунул средний палец в раструб воротника, оправил галстук и сказал со снисходительной улыбкой:
- Видите, молодой человек, военные победы - еще далеко не всё. К сожалению, мы не стоим в ряду культурнейших европейских народов. У нас, например, слабо развита промышленность. У нас много неграмотных. Мы не разработали еще, не освоили собственных природных богатств. Да мало ли еще что? Возьмите Англию. Ее внешнее могущество соединяется с высокой культурой, тогда как у нас… - Педагог развел руками.
- А русская литература? - закричал Рыбаков, один из лучших учеников в классе, писавший сочинения на пятерки.
- А наше искусство? - крикнул кто-то с задней парты.
- А музыка, театр?
Педагог поднял руку.
- Успокойтесь, успокойтесь, господа! Вы, по-видимому, неправильно меня поняли. Я сам являюсь российским патриотом и не собираюсь ронять в вашем представлении высокую честь быть русским. Но истинные патриоты смотрят правде в глаза.
- Правильно! - крикнул Ливанов.
- Так вот, - продолжал педагог, - мы и должны признать, что у нас, в нашей стране, далеко не все обстоит так, как нам бы хотелось.
- Каждый хочет по-своему! - крикнул Казацкий.
- Так, как хотят настоящие, а не квасные патриоты, - поправился педагог.
- А кто такие квасные патриоты? - наивно спросил Матвеев.
- Ты что, не знаешь, дурень? - вмешался Андрей. - Это те, что пьют квас, то есть такие же олухи, как ты.
- Господа, спокойствие! - сказал педагог. - Я очень рад, что вы с таким жаром обсуждаете вопросы любви к родине. Но я думаю, что не следует нам вносить в этот вопрос столько азарта. У нас будет время, и мы обсудим этот вопрос со всех сторон. Может быть, даже напишем сочинение на эту тему. Сейчас же я предлагаю приступить к работе. Я хочу только сказать, что для всякого мыслящего человека, сознательно относящегося к современным событиям, необходимо внимательное изучение истории. Только в истории можно найти объяснение тем роковым неудачам на Дальнем Востоке, которые принесли столько страданий нашей родине.
- Какие неудачи? - вскочил опять Матвеев. Лицо его стало медно-красным. - Никаких "роковых неудач" нет. Это все мелкие сражения! Русская армия сбросит японцев в море, и мы превратим Японию в русскую колонию.
- Сядь! - закричали Андрей, Ливанов и другие. - Заткни фонтан красноречия!
Педагогу вторично пришлось успокаивать класс.
Он стал теперь у окна, скрестив руки на груди, и речь его лилась свободно и увлекательно. Гимназисты забыли о вспыхнувшем было горячем споре и слушали непривычно живой рассказ педагога.
Когда раздался звонок, мальчики не вскочили со своих мест, как обычно, и в полной тишине дали педагогу закончить урок.
Но зато с его уходом поднялась буря. Матвеев вскочил на парту, застучал каблуком в верхнюю откидную доску и заорал:
- Рано радуетесь! Мы его живо сократим. Разговорился. Бердичевский соловей!
- И заметили? Все только про бунт, только про бунт! - закричал Казацкий.
- Эти фокусы мы знаем! - продолжал кричать Матвеев. - Вот пойдем к директору и обо всем доложим.
- А что ты, собственно, доложишь? - спросил, сдерживаясь, Андрей. - Что он сказал непозволительного? То, что он говорил, в газетах пишут.
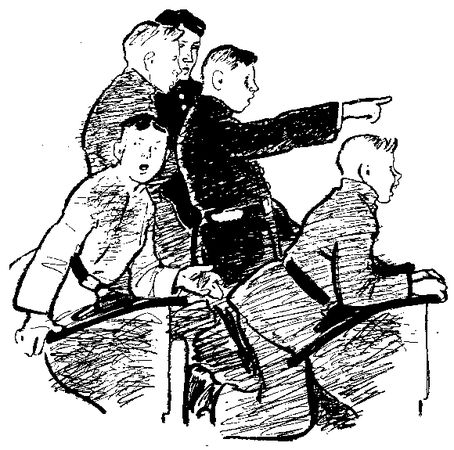
- В жидовских газетах! - кричал Матвеев. - И потом, что можно в газетах, того нельзя в гимназии.
- Не всем известно, что ты не дорос еще до политических вопросов. Он, видимо, на тебя не рассчитывал.
- Ну вас к черту! - выругался Козявка. - Чего переполошились? Сколько таких на руку идет? - Он выставил вперед мясистую лапу.
Но спор не утих. Было известно, что в классе есть два лагеря, две враждующие стороны: патриоты и либералы, но до таких открытых столкновений никогда не доходило.
Когда гимназисты по звонку вывалили в коридор, к пятиклассникам группами подходили ученики старших классов. Они жадно расспрашивали о том, что говорил новый педагог, как он себя держал, ставил ли баллы и вообще что это за птица. Пятиклассники с преувеличенно серьезным видом пускались в длительные рассуждения по поводу первого урока нового историка.
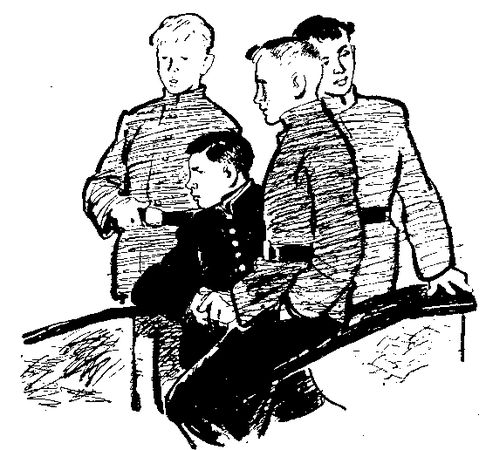
- Послушай, Андрей, - спросил Котельников, - почему Матвееву так не понравился новый преподаватель?
- Патентованный тупица! Отец - бранд-майор, в Союзе русского народа . А сын мечтает быть гусаром. Учится на одних колах. Зато марши всех кавалерийских полков дует наизусть. Формы всех полков за сто лет изучил на зубок. А больше ничем не интересуется.
- Курточка обтянутая, коротенькая, - перебил Ливанов, - штаны - диагональ на штрипках - вот-вот лопнут. А из карманчика - гроздь брелоков. Матвеев ходит, а брелоки звенят.
- Самый счастливый день в его жизни будет, когда он наденет погоны. Ну и, конечно, патриот умопомрачительный.
- Не один Матвеев придерживается таких взглядов, - раздался вдруг голос из дальнего угла класса. Это говорил невысокий, болезненного вида юноша, один из трех евреев, принятых в класс "по процентной норме".
- Наконец-то ты, Гайсинский, заговорил, - рассмеялся Андрей. - А ты больше все молчишь в кулачок.
- Речь - серебро, молчание - золото, - усмехнулся Гайсинский. - А в гимназии, пожалуй, даже не золото, а платина. А для евреев - бриллиант.
Нечего было возразить на это.
- У нас немало ребят, которые думают так, как Матвеев, - продолжал Гайсинский. - Например, Козявка, Казацкий, Кириченко… Или, например, Салтан. Впрочем, смеет ли исправничий сын иначе мыслить? А разве ваши классные либералы знают, чего они хотят? Они тоже не отдают себе хорошенько отчета в том, что делается.
- Ну, это ты зря, - обиделся Андрей. - Я каждый день читаю газеты. И притом не "Киевлянина", а "Киевскую мысль".
- Мало читать, нужно и думать…
- Ну, ты известный социал-демократ.
- Не надо об этом в классе! - испуганно вскинулся Гайсинский.
- А разве в классе нельзя говорить о политике? - спросил Котельников.
- О, святая наивность! - воскликнул Ливанов. - Если составить список вещей, о которых нельзя говорить в гимназии, то получится объемистая тетрадь.
- Преувеличиваешь, - сказал Василий.
- Преувеличиваю? Считай, - он стал откладывать на пальцах, - о политике нельзя, о революции нельзя, о любви нельзя, о том, что бога нет, нельзя, об украинской истории нельзя, о Шевченко нельзя, украинские песни петь - и то нельзя…
- Каждую перемену поем.
- На дворе, на улице… А ты попробуй спеть на гимназическом вечере. Кроме "Реве та стогне Днипр широкий", ничего нельзя. На рождественский вечер наш хор хотел подготовить две-три вещицы на украинском языке, так директор начисто запретил, и Хромому Бесу влетело.
- Пожалуй, ты прав, - усмехнулся Андрей. - Синодик этот можно и продолжить.
- Вот то-то ж и оно-то, - сказал Ливанов.
- Так почему же этот новый педагог… как его зовут?
- Игнатий Федорович.
- А фамилия?
- Смешная какая-то. Не то Корешок, не то Посошок, не то Пастушок.
- Марущук…
- Да, так почему же он так откровенно высказывается?
- А ты заметил, как он хвостом вилял. Я, мол, сам патриот. Но нужно, мол, правде в глаза смотреть.
- А все-таки я вам скажу, - решительно заявил Ливанов, - Игнатий Федорович молодец! Разумеется, он говорит не все, что думает. Видишь, и без того какая буча поднялась. Но зато он заставляет нас думать. Обмениваться мыслями. Мы бы сейчас играли в квасок или на деревья лазили в инспекторском саду. А теперь вот сидим и говорим о деле.
- А знаете, ребята, Гайсинский прав. Надо бы нам серьезно поработать. Собраться где-нибудь, поговорить. Слушай, социал-демократ, - обратился Андрей к Гайсинскому, - ты, наверное, знаешь, где собирается народ… Сделай так, чтобы мы могли принять участие…
- Кто таких мальчишек примет в серьезный кружок? - досадливо сморщился Гайсинский. - На другой день разболтаете и засыплете ребят. Или папашам и мамашам расскажете, или симпатиям. А если хоть одна симпатия знает, то весь город узнает.
- Не хочешь, черт с тобой. Мы и сами свой кружок устроим.
- С этого и надо начинать, - сказал Гайсинский.
Глава четвертая
В "инициативную группу" вошли Ливанов, Котельников, Андрей, первый ученик Ашанин, Берштейн и Якубович.
Берштейн был сыном местного врача-окулиста, пользовавшегося некоторой известностью даже за пределами города. Берштейны жили богато. Длинноносые ботинки с рантом, новенький лакированный пояс, несмятый воротник курточки гимназиста свидетельствовали о довольстве и обеспеченности всей семьи. Берштейн позволял себе необычайную для еврея роскошь - не гоняться за пятерками - и учился "на три с плюсом".
Якубович, сын мелкого почтового чиновника, всегда был одет бедно и неряшливо. Прямые, бесцветные, как пакля, волосы были отпущены длиннее, чем полагалось по неписаным гимназическим "правилам, и из-за этого между Якубовичем и инспектором происходили постоянные стычки.
Инициативная группа собралась у Ашанина. Сначала рассматривали семейные альбомы и отцовские книжки, затем пили чай с вареньем и, только выполнив весь ритуал, занялись организацией кружка.
- Что же, собственно, мы будем делать? - спросил Якубович, с самого начала относившийся к затее скептически.
- Читать, обмениваться мыслями, спорить, - ответил Андрей.
- А какие книги мы будем читать?