- Давай сделаем так, Мишка, - сказал Валя, - условимся: я тебе и ты мне можем самое дурное сказать - прямо в глаза. Ну вот, скажем, ты мне скажешь самое даже плохое, а обижаться я не имею права. Уговор такой, понимаешь? Я подумать должен, решить должен. Если ты нрав, послушаться должен. А если неправ, должен тебе объяснить, и мы вместе обсудим, понимаешь?
- Хорошо, - сказал Миша, - только про это надо договориться навсегда. Ты на меня не сердись, но вот ведь и отец твой споткнулся, а он уже взрослый. Значит, каждому всегда надо знать, что есть человек, которому всё прямо скажешь, а он тебе прямо и ответит. Похвалит или осудит. И пусть это будет сверх всего. Бывает ведь знаешь как: и папе не решишься сказать, и маме не решишься, и Анюте, а мы уж друг другу обязаны решиться и всё рассказать.
Тяжёлая деревянная дверь, возле которой они стояли, открылась. Вышел высокий толстый человек в роговых очках, у которого был необыкновенно серьёзный и важный вид.
Каждому видевшему его казалось, что он, может быть, министр или, в крайнем случае, заместитель министра, а может быть, академик или, в крайнем случае, профессор, наверное, человек, недоступный для обыкновенных человеческих чувств, потому что всё время продумывает проблемы мирового или, в крайнем случае, государственного значения.
- Так, - сказал этот человек, и глаза у него были сердитые, недовольные, это видно было даже через роговые очки. - Значит, укрываетесь от дождя под навесом?
По тону его можно было подумать, что он предъявляет мальчикам очень серьёзное обвинение.
- А что, - спросил Валя, - разве нельзя?
- Нельзя, - ответили роговые очки. - Я в вашем возрасте по лужам босиком шлёпал.
Мальчики неясно поняли мысль, которую этот важный человек хотел высказать.
- Извините, - сказал Миша, - мы думали, что здесь никому не мешаем.
- А вы никому и не мешаете, - строго сказал важный человек. - Вы просто упускаете замечательную возможность - шлёпать по лужам или, по крайней мере, прыгать через лужи. Придётся мне, старику, показать вам пример.
И вдруг он, разбежавшись, прыгнул через огромную лужу. Не допрыгнул до другого берега, видно, вес был слишком велик. Он всё-таки попал в воду и поднял целый фонтан брызг. Посмотрел на мальчиков и рассмеялся.
- А? Каково? - сказал он. - Почти перепрыгнул. А ведь шестьдесят лет. А ну-ка, молодые люди, как вы?
Валя не успел оглянуться, как Миша разбежался и перелетел через лужу. Тогда, не думая, Валя побежал за ним и прыгнул тоже. Оба они попали в воду и промочили ноги, но им стало от этого только веселее и лучше.
- Очень хорошо, - сказал толстый человек, - вы начинаете понимать радость жизни. Желаю вам дальнейших успехов в этом направлении. Извините, подходит мой троллейбус.
Он с необычайной быстротой побежал за троллейбусом, попадая в лужи, не обращая на это внимания, и успел всё же протиснуться в закрывавшуюся дверь.
Смешно и весело стало Вале и Мише. Удивительно яркая была листва на деревьях, пар поднимался над асфальтом, наступал хороший летний солнечный день. Они зашагали к дому, иногда поглядывая друг на друга и друг другу улыбаясь.
Глава двадцать шестая. Отец и мачеха
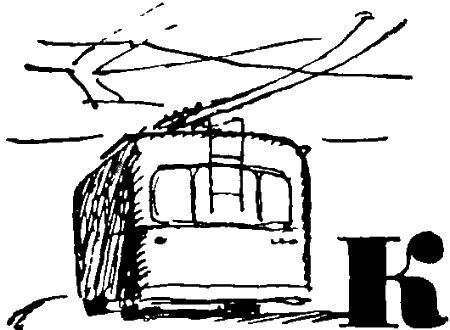
Катя попала к Быковым только в восьмом часу вечера. Пока она закончила день в лагере, пока простилась с ребятами, пока нашла Вовин адрес. Она понимала, что разговор будет очень нелёгким, но не боялась его. Ощущение внутренней собранности и подтянутости, желание преодолевать препятствия не оставляли её после разговора со Сковородниковым. А утром ещё радостное событие - операция у Клавдии Алексеевны прошла хорошо. Хотя Катя в этом никакого участия не принимала, но чувство успеха передалось и ей. Ведь вот же сумели врачи спасти Клавдию Алексеевну, а им тоже небось нелегко было…
Почему-то Катя Кукушкина думала, что Вова Бык живёт в старом доме, так же предназначенном к слому, как тот дом, во дворе которого помещалась его штаб-квартира. Почему-то думала она, что в этом доме мрачная, грязная лестница, по которой бегают худые, облезлые кошки.
Всё было не так. Вова Бык жил в небольшом - всего пять этажей, но новеньком и очень весело выглядевшем доме. Катя поднялась на третий этаж. На одной из лестничных площадок она выглянула в окно. Окно выходило в зелёный двор. Дети раскачивались на качелях, любители шахмат и домино сидели за врытыми в землю столами, аккуратные старички и старушки прогуливались по дорожкам, посыпанным песком.
Катя удивилась. Почему в этом весёлом доме вырос мрачный и злобный мальчик? Разве он не дышал воздухом этого сада?
Катя позвонила. Ей открыла немолодая худощавая женщина. Одной рукой она отпирала замок, а в другой держала за ручку сковороду с жареной картошкой.
- Мне нужно к Быковым, - сказала Катя.
- Я Быкова, - ответила худощавая женщина.
- Я насчёт Вовы, - объяснила Катя. - Мне хотелось бы поговорить с вами. Вы его мать?
У женщины стали испуганные глаза. Рука её даже дрогнула, когда она услышала, что разговор будет о Вове. Видно, много плохого пришлось ей видеть от пасынка, видно, каждую минуту она ждала, что узнает что-то ещё более плохое, совсем уже страшное.
- Я его мачеха, - сказала она. - Входите, - и пошла вперёд.
Квартира была маленькая, но отдельная, состоявшая из двух смежных комнат. В первой из комнат, куда вошла Катя следом за Вовиной мачехой, стоял посередине стол, по стенам два дивана. За столом сидели семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Худощавый мужчина лет сорока, в клетчатой рубашке, с мокрыми волосами - видно, он мылся, придя с работы, - поднялся навстречу Кате, протянул ей руку и сказал: "Быков".
Да, небогатая это была комната, и мебель была дешёвая и старомодная, такую выпускали лет пятнадцать назад, и купили её, видно, по случаю, но ничего мрачного в комнате не было. На подоконнике стояли горшки с цветами и небольшой аквариум, в котором росли удивительные растения и яркие рыбки проплывали сквозь арки из ракушек.
Нет, не так представляла себе Катя Кукушкина жилище, в котором живёт Вова.
Катя объяснила, кто она, и спросила имена, отчества у отца и мачехи. Оказалось, что отца зовут Иван Петрович, а мачеху Мария Петровна.
- Вот вам и легче будет запомнить отчества, - усмехнулся отец. - Одинаковые. Не спутаете.
Он шутил, но глаза у него тоже были испуганные, как у мачехи. Видно, и он боялся узнать о сыне что-то ужасное. Много раз узнавал он плохие новости, понимал, что дела с сыном идут хуже и хуже, не знал, что делать, и всё время ждал новостей совсем страшных.
- Я не жаловаться на Вову пришла, - сказала Катя, - ничего страшного не случилось, а то плохое, что знаю я, знаете, наверное, и вы. Я хочу просто посоветоваться. Что делать? Ведь пропадает парень.
- Плохо, плохо, - сказал Иван Петрович.
А Мария Петровна смотрела на Катю и ждала продолжения, и только руки у неё нервно двигались и всё скручивали в трубочку, раскручивали и скручивали снова какой-то листок, вырванный из тетрадки, листок, случайно лежавший на столе.
- Не пойму я, - сказал, помолчав, Иван Петрович, - ведь парень соображает. Я овдовел, ему восьми лет не было. Да она потеряла мужа и осталась с двумя. Этой-то ещё три было, да этому два. Куда же ей? Мы сошлись, думали, лучше будет и ей и мне, всё-таки вместе детей вырастим. А тут и квартиру дали приличную, сами видите, жить можно. И если бы сказать, что Маша его обижала - так нет, не было этого. Ну конечно, с тремя детьми замотаешься, всё в спешке да в спешке. Скажет иной раз что-нибудь, может, и не так. Так она и своим иной раз не то что скажет, а и по затылку стукнет. Тоже ведь женщину понять нужно. А Вова сразу как-то сердиться стал. Если бы на Машу только. Ну, она старше его, умнее. Она и смолчит иной раз, внимания не обратит. А то ведь он на детей. Очень сильно он их обижал. Они его до сих пор боятся. Вот скажи ты, Люба, и ты, Витя, боитесь, ведь правда?
- Боюсь, - сказала Люба.
- Ничуть я его не боюсь, - сказал Витя. - Я ещё подрасту немного да как дам ему.
- Видите, - сказал Иван Петрович. - И мальчишка обозлился. А ведь ему только семь лет стукнуло. Разве же ему можно злиться! Ему злиться никак нельзя. А мне как быть? Я на него прикрикну, что он маленьких обижает, так он на меня как индюк дуется. Вроде, мол, я ради чужих детей родного сына тираню. А что же я могу? Справедливость должна же быть.

- Вы меня послушайте, - вдруг сказала Мария Петровна, скручивая и раскручивая листок, вырванный из тетради. - Вот поженились мы с ним, у него сын, да у меня двое ребят. Нам казалось, всё хорошо будет. Он пережил горе, я пережила горе - вместе, думали, залечивать станем. Да разве я не понимаю, что самое важное мир в семье. Я бы за этот мир на что угодно пошла. Разве бы я позволила, скажем, чтобы его сына обижать, или позволила бы своим, скажем, лучший кусок сунуть? Что же я, не понимаю, чем это кончается? Слава богу, не девочка. Навидалась! Ну, скажем, Иван Петрович прежде, бывало, закладывал. Тоже надо понять - горе пережил человек. Мужчины, знаете, иногда сильные бывают, а бывает так, что очень сильный мужчина таким слабым делается! Это тоже понимать надо, их слабость. Ну, зайдёт после работы с товарищами - домой вернётся под хмельком. Разве, думаете, он позволял себе безобразничать? Никогда этого с ним не бывало. Наоборот, придёт, виноватым себя чувствует - тише воды, ниже травы. А Вова словно нарочно его дразнит. Иван Петрович отмалчивается, а Вова всё наскакивает. Всё с ехидцей говорит. И совсем ведь мальчишка, а знает, какие слова человека обижают. Иван Петрович, бывало, побелеет, а молчит. Один только раз не выдержал, да и то не ударил, а накричал только. Уж я и его успокаивала и Вову успокаивала. Потом прямо со слезами Ивана Петровича просила - перестань, говорю, выпивать, я знаю, ты норму соблюдаешь, да ведь сын обижается. Представьте себе, перестал! Ну, теперь разве на праздники, на Первое мая или на Ноябрь. Хорошо, казалось бы, так Вова ещё больше обиделся: "А, говорит, стоило мачехе слово сказать, так ты уже и с друзьями посидеть не можешь!"
Она разволновалась, у неё дрожали руки, и она всё быстрее и быстрее скручивала и раскручивала листок тетрадки. И, видно, слёзы мешали ей говорить. Она замолчала, чтобы не всхлипнуть, чтобы не расплакаться. И хоть не плакала, но слёзы текли по её лицу.
- И откуда в нём такое зло? - сказала она. - Просто понять не могу. Ну, ладно, матерью не захотел меня называть, называй меня, говорю, тётя Маша. Нет, ни за что. Только мачеха и на "вы": "Вы, мол, мачеха, мне не указ, я вас слушаться не обязан".
Пальцы у неё так и бегали, скручивая и раскручивая листок из тетрадки. И Люба, не зная, как успокоить мать, молча взяла листок, превратившийся в трубочку, из материных рук, и Мария Петровна даже этого не заметила. У неё начали дрожать плечи.
- Успокойся, Маша, - сказал Иван Петрович. - Подожди, посоветуемся, может быть, товарищ и поможет. Как вас по отчеству?
- Называйте меня Катей, - сказала Кукушкина.
- Натворил что-нибудь Вова? - спросил Иван Петрович. - Вы уж не скрывайте. Скажите!
- Понимаете, - сказала Катя, - особенного ничего нет. И я не жаловаться пришла, а просто подумать с вами. Обосновался он в одном таком укромном местечке, за сараями, во дворе старого дома. Собрал там вокруг себя ребят, все мальчишки младше его или, во всяком случае, слабее. Затеял там игры, ребят запугивает, обыгрывает их, всегда они у него в долгу. Чтобы отдать ему долг, торгуют билетами у кино. Словом, достают всеми способами деньги. Иной раз и продают то, что не им принадлежит.
- Воруют, значит, - тихо сказал Иван Петрович.
- Ну, не то что какие-нибудь крупные кражи произошли, - сказала Катя, - но, знаете, ведь дальше может и хуже быть.
- Сам-то Владимир ничего не украл? - сказал Иван Петрович и замолчал.
И Катя поняла: он так волнуется, что слова сказать не может.
- Да нет, Ваня, - сказала Мария Петровна, - если бы такое что было, нам бы уже Катя сказала. Вы извините, я вас Катей называю.
- Да, да, - кивнула Катя головой, - конечно. Но понимаете, суммы Вова выигрывает большие. Я не всё знаю, но там счёт идёт на десятки. Может быть, на много десяток.
- Куда же он деньги девает? - Иван Петрович в растерянности посмотрел на Марию Петровну.
- Если бы, знаете, одеждой увлекался, сказала Мария Петровна, - как бывает с мальчишками, накупают всякую дрянь, хвалятся друг перед другом. А его ведь дырку залатать и то не уговоришь. Пальто мы ему купили, так через две недели смотреть было стыдно. И чтобы носил что со стороны, ни разу не замечали.
- Куда бы ни девал, - сказала Катя, - а что-то с ним надо придумывать. Сегодня, может быть, ничего такого и нет, так будет завтра или через год. Раньше или позже что-нибудь да случится, если сейчас не задержать.
Иван Петрович встал, прошёлся по комнате и остановился у окна. Сорок лет ему было, может быть, с небольшим, и здоровье у него было крепкое - не болел никогда ничем, а сейчас, когда Катя смотрела на его согнувшуюся спину, на его наклонённую голову, на всю его фигуру, фигуру беспомощного, несчастного человека, ей показалось, что ему гораздо больше лет, что он уже старый и больной.
- Тут что-то да не так, - заговорил Иван Петрович, ни к кому не обращаясь, будто беседуя сам с собой, будто размышляя вслух. - Зачем же в тринадцать лет парню такие деньги? Тут не мороженым, не пирожным пахнет. Тут страшные могут быть дела. Пожалуй, знаете, я на заводе кой с кем переговорю. Может, помогут люди. У нас там толковые есть товарищи. Вот ведь беда какая! Я тоже хорош. Отец называется! Ну, думаю, шалопутничает парень, шатается целые дни по улицам, так ведь и я в его возрасте не так уж много дома сидел. В школе-то учится. Хоть и не на пятёрки, но из класса в класс переходит. А дело выясняется серьёзное. Тут надо за ум браться. Шутка ли - такие деньги! Для меня в его возрасте полтинник был суммой. Значит, на что-нибудь да нужны они ему.
- А я знаю, на что Вове нужны деньги, - сказала вдруг очень спокойно Люба.
Все повернулись к ней. Она держала расправленный листок тетради, тот самый листок, из которого Мария Петровна то скручивала, то раскручивала трубочку.
- Ничего ты не знаешь, - сказал Витя. - Откуда ты можешь знать?
- А вот и знаю, - уверенно возразила Люба. - Ты ведь, мама, этот листок на столе нашла?
- На столе, - кивнула Мария Петровна головой. - Хотела смахнуть, да как раз товарищ Кукушкина Катя пришла. Я и забыла.
- А тут Вова всё написал, - спокойно ответила Люба. - Я только не пойму, вроде куда-то он уезжать собирается.
Иван Петрович выхватил листок у Любы. Катя и Мария Петровна, заглядывая через плечи Ивана Петровича, читали с ним вместе. Некоторые буквы стёрлись: недаром столько раз скручивалась и раскручивалась бумага. Но Вова писал очень крупными буквами, и разобрать можно было всё.
- "Папа, - читал Иван Петрович, - можешь не огорчаться. Больше я тебе с мачехой надоедать не буду. Сегодня поездом, уходящим в час ночи, я уезжаю в Мурманск. Там поступлю юнгой на судно. Словом, стану моряком. Желаю всего хорошего. Вова".
- Ой, да что же это! - сказал Иван Петрович, растерянно оглядывая Марию Петровну и Катю. - Да ведь тринадцать лет парню, мало ли что может случиться! Куда же он там одни денется?
Мария Петровна первая сообразила, что надо делать. Посмотрев на будильник, она сказала:
- Чего ты волнуешься, Ваня, сейчас только девять часов. Если мы сейчас выедем, в десять будем на вокзале. До поезда останется три часа. Мы подождём, предупредим железнодорожную милицию. Вова только придёт на вокзал, а мы его уже встретим.
А Иван Петрович совсем растерялся.
- Дожил, дожил, - повторял он. - Сын родной убежал. Да разве же я его тиранил? Что же это такое?
Мария Петровна уже несла пиджак и кепку.
- Одевайся, Ваня, - говорила она, - ты не волнуйся, это бывает с ребятами. Может, всё и к лучшему. Поговорите, скажете, кто на что обижен. Может, тут и помиритесь.
Она держала пиджак, а Иван Петрович совал руки в рукава и всё не мог попасть, так у него руки дрожали.
Иван Петрович надел пиджак, а Мария Петровна ушла в другую комнату.
- Вы поедете с нами? - сказал Иван Петрович Кате. - Пожалуйста, поезжайте. Не бросайте нас, я-то ведь не знаю, как с ним говорить. Может, вы поможете. Он ведь знаете какой? Обозлённый, обидчивый. Я что не так скажу, он совсем разобидится.
- Ничего не бойтесь, Иван Петрович, успокаивала его Катя, - я поеду с вами. И, конечно, не брошу вас, и разговаривать с Вовой мы будем вместе, и не на что будет ему обижаться.
А Мария Петровна уже выходила из соседней комнаты, на ходу надевая платок и натягивая выцветший, потрёпанный жакет.
- Ты, Люба, старшая, - сказала она дочери, - следи за Витей. Газ не зажигайте, из квартиры - ни ногой. Может, мы поздно вернёмся, так вы постели себе постелите и ложитесь. У меня ключ, так что спите спокойно. Мы сами откроем. Витю к окну не пускай, да и сама не лазай.
Она уже тащила за руку Ивана Петровича, последние слова договорила с площадки лестницы и, захлопнув дверь, быстро зашагала вниз. За нею шли Иван Петрович и Катя.
- Вы только нас не бросайте, - говорил Иван Петрович Кате, - может, знаете, мы с Машей где-нибудь спрячемся, чтобы он нас сперва не видел, может, вы сперва к нему подойдёте, поговорите с ним, а там уж и мы.
- Хорошо, хорошо, - соглашалась Катя, - не бойтесь, не брошу я вас. И поговорю первая, а вы, если хотите, спрячьтесь.