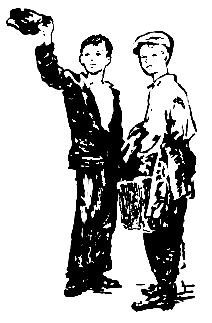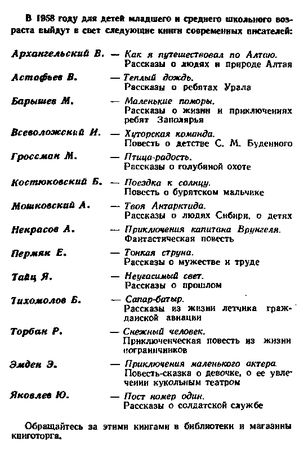…"Подземные огни" выходили еженедельно; кроме того, почти каждый день на листках, вырванных из тетради, выпускались "молнии". Все номера стенгазеты переписаны двумя почерками: круглым, совершенно детским, с неровными буквами - Ласькиным, и каллиграфическим почерком заместителя редактора - горного мастера Николая Орлова.
Иногда можно проследить и третий почерк - свидетельство того, что стенгазета иной раз выпускалась не в помещении редакции, а в московской квартире редактора. Эти номера отличались еще и рисунками, чаще всего - карикатурами.
Когда я смотрю на газеты, мне вспоминается такая картина. Вечер. Я открываю дверь и вхожу. Все дома, но никто не оборачивается. Федя сидит за столом и рисует, Коля Орлов, поднимаясь на носки, осторожно, двумя пальцами, держит лампу за шнур, немного оттянув ее, чтобы свет падал на лист ватмана, Ласька стоит рядом с Орловым.
- Толстый? - не поднимая головы, строго спрашивает Федя.
- Именно толстый, - шепотом от уважения к художническому труду отзывается Орлов. - …И усы, Феденька, нарисуй…
Слышно, как перо царапает ватман.
- Ноги можно, чтобы кривые? - снова так же строго спрашивает Федя.
- Давай! - шепчет Орлов. - Будет знать, как в служебное время за пол-литровками гонять!
Но вопрос слишком ответственный, и Федор ждет, тяжело дыша от творческого напряжения.
- Можно кривые, - кивает наконец Ласька.
Я просматриваю номера стенгазеты и "молнии", всем - короткими заметками, стихами, карикатурами - напоминающие об одном: невыполнении плана добычи, растущем "минусе".
Сперва прорыв, судя по стенгазете, опасный, даже угрожающий; потом тон заметок становится спокойнее. Вместе с тревожными нотами, перебивая их, звучат торжественные, рядом с карикатурами появляются портреты передовиков; наконец, к весне, "молнии" начинают выходить реже, и это главный признак того, что дела налаживаются.
Ласька работал в третьей восточной лаве, одной из самых "капризных" и неблагополучных на шахте. Семнадцатого апреля перед окончанием вечерней смены врубовка остановилась. Надо было ее исправить, и Ласька послал своего помощника за механиком. В одиннадцать начиналась ремонтная смена, но ремонтники - Трофимов и Дежнев - молодой парень, только вторую неделю работающий на шахте, - почему-то запаздывали.
Ласька ждал. Он всегда выходил из лавы последним, очевидно для того, чтобы дать себе время немного отдышаться и подниматься не торопясь, когда некому тебя разглядывать и не перед кем делать вид, что ты себя чувствуешь прекрасно.
Подошел Орлов. Ласька попробовал встать на ноги и не смог - тяжело сел, почти упал. Очевидно, ему было намного хуже, чем обычно после работы, если он впервые за все время дружбы с Орловым пожаловался на свое состояние. Орлов посветил "шахтеркой", и его так испугало опухшее Ласькино лицо, что он хотел сразу бежать за врачом.
- Не надо! - попросил Ласька.
Когда Орлов посветил еще раз, первое, испугавшее его впечатление не вернулось. Выражение особого, одному только Лаське свойственного воодушевления и на этот раз изменило черты лица, придав ему обычный, почти мальчишеский облик.
- Давай полежим, если не торопишься, - предложил Ласька.
Довольно долго они лежали рядом у машины. Было слышно, как с кровли скатывается и падает вода. Еще несколько раз Орлов спрашивал, не пойти ли за врачом, но Ласька не отвечал. Украдкой посветив, Орлов видел, что Ласька лежит все в той же позе, с нахмуренным и, несмотря на это, таким даже торжественным лицом, что он не решался его потревожить.
Наконец послышались шаги и голос Трофимова, напевающего что-то; слов разобрать было нельзя.
- Непонятный человек, нелюдимый какой-то, - сказал Орлов.
- А поет хорошо, - отозвался Ласька, нехотя н с трудом поднимаясь.
- Это еще не главное…
Песня оборвалась. Ремонтники подошли и остановились. У Трофимова, как всегда, было угрюмое, не-выспавшееся лицо. Дежнев держался в тени, и глаза его хранили то недоумевающее выражение, какое бывает у новобранцев при выстрелах своих же орудий и у молодых шахтеров, всем, даже кожей головы чувствующих над собой стометровый пласт породы.
Поговорив с ремонтниками, Орлов и Ласька направились к выходу. Пройти надо было пятьсот сорок шагов: за эти месяцы Ласька до вершка вымерил трудный для него путь. Он шел, сильно наклоняясь вперед, и, тяжело дыша, считал про себя шаги. Штрек поднимался очень круто, потом сворачивал почти под прямым углом и шел более полого, упираясь в рудничный двор. Обычно самыми трудными были первые сорок шагов - по крутизне - и последние: к концу пути он совсем выдыхался. На этот раз каждый шаг казался непосильно тяжелым.
- Странно: с таким лицом, а ведь поет хорошо! - проговорил Орлов, снова затевая этот разговор главным образом для того, чтобы иметь повод оглянуться и посмотреть, как себя чувствует Ласька.
- Лица у людей меняются, - задыхаясь и делая между словами длинные паузы, отозвался Ласька.- Лица меняются, сердца реже…
Орлов хотел остановить проходивший мимо электровоз с вагонетками, чтобы Ласька мог доехать до рудничного двора, но тот резко отказался:
- Раньше срока в инвалиды не записывай! Не торопись!
Рубашка у Ласьки намокла от пота, и вдруг он почувствовал, что все тело охватил ледяной холод. Очевидно, рудничный двор был уже близко, и это через ствол с поверхности потянуло свежим ветром. Ласька остановился и подумал, что уже ночь, скоро он поднимется, сможет лечь и отдохнуть. Осталось совсем немного: двадцать - тридцать шагов, а завтра ему будет лучше. Его знобило, и, хотя в шахте, как обычно, было довольно тепло, ощущение ледяного холода не проходило. Почему-то вспомнилось, как в медпункте метро старик врач говорил: "Подземная работа для вас исключена, как, например, полет на Марс". Ну что ж, может быть, на Марс ему не полететь, но до клети он дойдет. Из последних сил! Но человек и должен иметь перед собой цель, которая требует всех сил, до последних резервов. Ему необходимо добраться до клети, и так, чтобы никто не увидел, что это далось так трудно. Мысли путались. Он не заметил, как соскользнул на пол и сел и как Орлов поднял и понес его.
На поверхности Лаське стало лучше, и он уже мог идти без посторонней помощи. Была суббота, и у нарядной стоял грузовик Углеснаба, с которым он обычно ездил на выходной в Москву. Шофер, увидев Лаську, зажег фары и открыл дверцу кабинки. Ласька поздоровался с шофером, но сказал, что сегодня не поедет, и попросил сразу же, из первого автомата, позвонить Вере, передать, что он задержался на шахте.
- Скажи - спешная работа, и чтобы не волновалась, буду на следующей неделе.
Когда дверца захлопнулась и машина выехала на шоссе, он почувствовал острое сожаление, что не поехал в Москву, не увидит сегодня сына и жену.
- Пять часов - и был бы дома, - проговорил он вслух и даже шагнул в сторону шоссе, где еще виднелся красный огонек удаляющейся машины.
Он махнул рукой и сам себе сказал: "Каким-то ты становишься домашним слишком! Раньше этого за тобой не замечалось. Ничего же особенного - потерпишь до следующей недели".
Вместе с Орловым они прошли в комнату редакции. Ласька сразу лег. Может быть, он боялся, что Орлов уйдет, и, чтобы удержать его, был разговорчивее и откровеннее, чем обычно, а может быть, эта откровенность, несвойственная Лаське "душевная размягченность" объяснялись просто болезненным состоянием. Он сказал Орлову, что время работы на шахте - самое счастливое в его жизни и что он только сейчас понял, что счастье такая непростая вещь.
- Тебе лучше? - спросил Орлов.
- Между прочим, - не отвечая на вопрос Орлова, проговорил Ласька, - мне кажется, что я сейчас с Верой, и особенно с Федей, ближе, чем раньше, когда мы виделись каждый день.
Орлов слушал и молчал.
В шесть часов Ласька проснулся от боя шахтко-мовских часов, который доносился из-за тонкой перегородки. В комнату редакции заглянул Орлов; он дежурил по шахте и домой этой ночью не уходил.
Было уже почти светло, и Ласька чувствовал себя совсем свежим, как всегда по утрам.
Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как меня мать учила, -
пропел Ласька.
- Подумают, что в редакции пьяные, - сказал Орлов. - С утра пораньше.
- Никто не подумает, - отозвался Лася.
Уже давно редколлегия собиралась проверить работу ремонтников. Сейчас, перед концом смены, было самое лучшее время для такой проверки. Ласька вышел на улицу и, получив в нарядной лампу, спустился вниз, Орлов остался на поверхности. Под гору идти было легко, и Ласька улыбнулся, вспоминая, какими бесконечными показались накануне эти несколько сот шагов. Шагал он медленно, боясь растерять утреннее ощущение полноты сил, которое, как он знал по опыту, было очень непрочным.
Он уже подошел совсем близко к своей лаве, когда услышал протяжный, нарастающий грохот и невольно прижался к стойкам. Грохот оборвался, и теперь доносился дробный стук падающих кусков породы - как дождь после грома. Мимо, пригибаясь и держась рукой за голову, пробежал Дежнев. Ласька окликнул его, но тот не отозвался. Грохот снова возобновился; в короткие секунды затишья

Ласька услышал крик из лавы и теперь бежал вниз по крутому ходку.
В лаве он сразу увидел Трофимова.
Трофимов лежал ничком, по пояс засыпанный породой и придавленный тяжелой стойкой. Лоб у него был разбит острым куском угля, и на закрытые глаза текла кровь. "Раз кровь течет - значит, живой", - подумал Ласька.
Он попробовал приподнять стойку, которая придавила Трофимова, но не смог. Тогда он схватил Трофимова под мышки и, закусив губу от напряжения, изо всей силы потянул тяжелое, неподатливое тело. Крепь не трещала, а стонала. Он подумал, что надо секунду передохнуть, иначе он и сам потеряет сознание; но за секунду отдыха лаву может запечатать обвалом. Надо было тянуть Трофимова, пока не вытянешь. Сейчас тоже нужны были все силы, до последних резервов, нужны еще больше, чем вчера.
Наконец он вытащил Трофимова из-под стойки и, только очутившись вместе с ним в круто подымающемся штреке, позволил себе передохнуть.
Ласька упал рядом с Трофимовым, и сразу ему показалось, что он очутился даже не в Москве, а в Ленинграде, в маленькой комнате на берегу Мойки, слышит сонное Федино дыхание и в звездном свете, проникающем в окошко, видит лицо сына на подушке, как видел когда-то ночью, возвращаясь из порта… Ласька понимал, что теряет сознание, и понимал, что не имеет права этого делать. Он судорожно глотнул воздух, и сразу снова возник грохот, темнота шахты, прорезанная узкой полоской света, тело Трофимова.
Ласька поднялся и потащил Трофимова дальше по штреку. Рубашка намокла, волосы тоже были совершенно мокрыми, и пот, стекая по лбу, заливал глаза.
У поворота он столкнулся со спасателями. Трофимова взяли у него из рук, Лаську тоже положили на носилки и понесли. На этот раз он не сопротивлялся и не делал попыток идти самостоятельно.
Лаську несли очень осторожно. На вопросы он не отвечал, лицо у него было совершенно без кровинки, но спокойное, с тем же напряженным, почти торжественным выражением, которое Орлов запомнил еще вчера вечером, когда они после смены лежали в штольне.
Его положили на диван в комнате редакции. Сделав усилие, Ласька притянул Орлова за руку и попытался спросить о чем-то, но Орлов не мог разобрать ни одного слова. На всякий случай он громко сказал:
- Все благополучно. И Трофимов жив. Не волнуйся и отдыхай.
Ласька лежал неподвижно, с широко раскрытыми глазами, повернув голову к окну. Осторожно высвободив руку, Орлов побежал вызвать врача. На дворе стояли и не расходились спасатели, рабочие ночной смены - очень много людей. У дверей валялись носилки. Орлов только что вошел в конторку и снял с рычага трубку, когда увидел машину скорой помощи; она остановилась у шахткома.
Когда он шел обратно, ему показалось, что народу на шахтном дворе еще прибавилось. И вдруг он заметил, что все стоят с обнаженными головами. Он и сам снял шапку, еще не зная, зачем это делает, и вдруг понял, что произошло.
Теперь комната редакции была ярко освещена. На столе белел незаконченный номер стенгазеты, из-под которого выглядывала картонка с выведенной тушью неровным Ласькиным почерком надписью: "Тише! Тут работают!" Ласька лежал по-прежнему, чуть повернув голову к окну, как будто прислушиваясь.
Шел тридцать шестой год. Еще шла война в Испании, и не так далеко было до новой войны. Впереди оставался тот "последний, решительный", о котором каждый из нас всегда помнил. Людям наших поколений надо было знать, как жить и как отдавать жизнь, когда это необходимо.
В МОСКВЕ, ДОМА…
Осень сорок третьего года. Бригаду перебрасывают с Калининского фронта на юг. Мы застряли на полустанке в шестидесяти километрах юго-западнее Москвы, застряли, видимо, надолго: впереди разбомблен путь, и я уже раз десять просил комбрига отпустить меня на сутки домой.
- Что вам там делать, лейтенант Лынь? Сами говорили, семья в эвакуации, друзья в армии, - отвечает комбриг. И в виде утешения добавляет: - Смотрите, ливень какой.
Действительно, за открытой дверью теплушки - стена дождя. Иногда ветер меняет направление, и дождь врывается в теплушку; мы нехотя поднимаемся и отступаем к задней стенке вагона. Через завесу дождя видна облетевшая роща и дальше дорога, по которой изредка на предельной скорости проносятся машины - из Москвы и в Москву. Я больше не докучаю комбригу просьбами, но провожаю взглядом каждую машину, пока она не скроется; это уставом не запрещено. Конечно, комбриг прав: никого близких в Москве не осталось, но все-таки, раз дорога с фронта на фронт волей случая пролегла мимо дома, нельзя там не побывать.
Небо постепенно светлеет, но вместе с проступающей кое-где линялой синевой, ближе к горизонту, возникают и красноватые полосы приближающегося заката.
Комбригу, человеку мягкому, надоедает смотреть на мое унылое лицо, и он со вздохом решает:
- Ладно, отправляйтесь! Только чтоб завтра к вечеру, к двадцати ноль-ноль, догнать эшелон. Как хотите, а догоняйте!
Последние слова я слышу, уже соскочив на землю.
Красные листья осин падают на плащ-палатку и прилипают к ней, как нашивки за ранения; дождь сразу смывает их, но ветер лепит новые листья. Я наступил на гриб. Роща полна белыми грибами и почерневшими, ссохшимися от старости ягодами земляники.
На шоссе я поднял руку и через десять минут ехал уже со всеми возможными удобствами к Москве.
Дождь с прежним упорством барабанил по брезенту, покрывавшему кузов грузовика.
Машина довезла меня до Охотного ряда. Долго, больше часа я звонил по автомату, уступая кабинку и снова занимая ее, всем родным, друзьям и знакомым, которых раньше, то есть до войны, у меня было много.
Одни телефоны не отвечали, а по другим я узнавал, что хозяева ушли на фронт или эвакуировались вместе с заводами и научными институтами.
Комбриг все это предсказывал, и, конечно, он был прав, но все-таки побывать даже в опустевшей Москве значило для меня очень многое.
Последним с каким-то странным, тревожным чувством я набрал Ласькин номер. Там тоже никто не подошел. Неужели и Федя на фронте? Ему должно быть семнадцать или восемнадцать лет, и это вполне возможно.
…Я не торопился и долго бродил по городу, предоставляя ногам самим избирать направление. Прошел мимо лаборатории, где работал до июня сорок первого года, мимо давно забытого всеми Института благородных девиц, из окна которого мы с Мотькой выпрыгнули когда-то, и остановился у здания коммуны, которую четверть века назад мы искали трое суток и нашли наконец, голодные, замерзшие, чтобы не терять никогда, до самого конца юности, и хранить в сердце всю жизнь.
Улицы были темны и малолюдны, по мостовым маршировали воинские отряды, и этим и еще чем-то гораздо более важным Москва нынешняя так напоминала Москву двадцатых годов, что прошлое рисовалось в памяти особенно отчетливо.
Тогда, в детстве, мы пришли к этому дому также поздно вечером. Двор был завален снегом, на улице ни души, здание казалось нежилым, но, когда мы открыли дверь, первый, кого мы увидели в конце длинного полутемного коридора, был Ласька. Он шел медленно, видимо задумавшись; куртка, по детдомовской моде, была для тепла накинута на голову.
Этой минуты встречи я почему-то никогда не мог вспомнить ясно. Помню только, что я сразу узнал Лаську, хотя лицо его было почти совсем закрыто курткой. А узнав, успокоился и подумал, что, если бы и на этот раз адрес оказался неправильным, мы бы с Мотькой уж совсем не знали, что делать.
Помню еще, как к нам подошел высокий человек с седой бородкой и Ласька сказал:
"Вот, Тимофей Васильевич, малыши-бродяги".
…Дверь открыта, и я, не стучась, захожу в вестибюль. Тут особенно ясно видно, как сильно повреждено здание бомбой. Из-за этих повреждений, должно быть, и выбрался отсюда госпиталь, о недавнем пребывании которого свидетельствуют невыветрившиеся запахи карболки и йодоформа, склянки из-под лекарств, куски марли и бинты на полу.
В здании пусто. Сквозь проломы в стенах дует ветер с дождем. Я хожу по комнатам и коридорам, поднимаюсь с этажа на этаж. Все время кажется, что кто-то идет вслед, что сейчас из темного коридора выбежит Мотька, веселый, радостный, торопливый, с какой-нибудь совершенно сногсшибательной новостью.
За приоткрытой дверью канцелярии видна яркая оранжевая полоса, точно там сейчас "большой костер" и Август проверяет счета. Открываю дверь: конечно, в канцелярии пусто, только за окном, за деревьями разросшегося сада, горит закат.
Я перехожу из комнаты в комнату, бережно развертывая и складывая в памяти воспоминания, как складывал в вещевой мешок, когда уходил на фронт, смену белья, ружейный прибор, толстую тетрадь и патронник с патронами. Они все понадобятся мне. Нам сейчас нужны все силы, накопленные в мирные годы, а значит-и все силы, которые так щедро дала нам коммуна, когда-то давно, раз и навсегда!
1954-1957