Но едва девочка повеселела, обещанные Гутхейлю прелюдии пошли одна за другой.
В большинстве пьес этого цикла с небывалой еще душевной щедростью раскрыт мир пейзажной лирики Рахманинова, льются гимны русской природе. Лишь в отдельных пьесах слышны интонации сурового мужества, бурного протеста. Особняком стоит Прелюдия ре-минор (в темпе менуэта), произведение большой трагической глубины и ярко национальное по колориту.
2
В конце октября Москва помянула десятую годовщину со дня смерти Чайковского. И все звучавшее в эти дни - и Шестая симфония, и "Иоанн Дамаскин" Танеева, и вариации Аренского на тему "Был у Христа-младенца сад", и оба элегических трио - на время оттеснило другие впечатления.
На 15 ноября 1903 года в симфоническом у Зилоти в Петербурге было назначено первое исполнение в столице рахманиновского Концерта до-минор.
В снежных сумерках под глухую стукотню колес обрывки мелодий теснились в памяти, сплетаясь с голосами прожитых лет. И со странной назойливостью приходил на ум, не то на память все тот же образ, от поры до времени тревоживший композитора. Было ли это наяву или только пригрезилось, он не мог припомнить. Будто бы ехал он когда-то в этих широких скрипучих санях. Тройка ленивой рысцой бежала в гору. Коренник, фыркая и бряцая сбруей, тряс косматой гривой.
И непонятная тревога закрадывалась в сердце. Куда везет его этот плечистый молчаливый мужик в армяке с цветной опояской? Что там за пригорком, за темным ельником и березовой опушкой?..
Так уже повелось, что в Петербурге под огромным светящимся циферблатом перронных часов музыканта всегда ожидала его маленькая племянница Зоечка Прибыткова, сперва с няней, а стала постарше - сама. Девочка была смышленая и трогательная в своих заботах о длинноногом дядюшке. За это последний, когда Зоя была вся еще с ноготок, дал ей шутливое прозвище "Секретаришка". Он полюбил ее на всю жизнь еще до того, как на свет появилась Ирина.
По дороге в санях приезжий музыкант узнал все домашние новости. Узнал, между прочим, и о том, что в кабинете у Прибытковых, где он всегда останавливался, жила до его приезда какая-то Вера Федоровна.
Но Рахманинов был поглощен предстоящим концертом. Трудно было предвидеть, как он пройдет.
…В этой музыке была страстная покоряющая сила. В толпе, хлынувшей к подножию эстрады, он видел сияющие лица, глаза. Но в том конце зала, где сидели обычно столичные рецензенты, царил иронический холодок, из уст в уста летало колючее словечко "архаика".
В тот же вечер исполнялась симфония молодого москвича Александра Гедике.
После концерта, за ужином у Зилоти, где присутствовал весь музыкальный Петербург, Шаляпин, поднявшись, потребовал внимания и, слегка коснеющим языком, адресуясь к дебютантам, повел выспреннюю речь от лица присутствующего "отца русской музыки Римского-Корсакова". При существующих холодноватых отношениях между столицами речь прозвучала если не бестактно, то, во всяком случае, неуместно. Все были сконфужены. Римский сидел молча, опустив глаза на тарелку.
Шаляпин и Рахманинов расстались в этот вечер не простясь.
Сергей Васильевич долго не мог уснуть, а проснулся с чувством неловкости и досады, и даже посетовал на себя, почему заказал билет только на завтра.
Но Зоя Секретаришка развеселила его, показав валящий за окошком густой снег. Потом сообщила шепотом, что в гостиной Вера Федоровна и еще двое дядей что-то "представляют".
Услышав за дверью веселые голоса, Рахманинов тут только догадался, в чем дело. Он ужасно смутился, сам не зная почему. Торопливо одевшись, хотел ускользнуть, но его заметили и попросили остаться. Вера Федоровна Комиссаржевская, Владимир Николаевич Давыдов и совсем молодой артист Александринского театра Ходотов репетировали пьесу Фабера "Вечная любовь".
Взяв на колени Секретаришку, Рахманинов приютился под пальмой в дальнем углу.
Происходящее в гостиной через минуту заворожило его, а все случившееся накануне сделалось ничтожным. Рахманинов знал, что такой случай больше не повторится в его жизни, и потому он не вправе проронить ни одного штриха, ни одного слова, ни одного взгляда этих глаз, сияющих, умных и невыразимо печальных.
В жизни она была другая - веселая, немного застенчивая, она заразительно смеялась и покоряющей искренностью и простотой не походила на актрис, с которыми Рахманинова сталкивала судьба.
Никто не заметил, как улетел этот короткий снежный день. После обеда Давыдов читал басни, при всеобщем веселье перевоплощаясь то в ворону, то в повара, то в блудливого кота Василия. Потом Ходотов пел под гитару цыганские песни и, вдруг умолкнув, раскинул руки и пал на колени на мягкий ковер.
Вера Федоровна засмеялась. Потом, погрустнев, села на стул боком, положив подбородок на сплетенные руки. Зазвенел гитарный перебор, и Рахманинов впервые услышал песню бесприданницы Ларисы. Не старый, запетый итальянский романс пел ее голос, но горькую правду любви и отчаяния. Могли ли заглушить его эти беспомощные строки:
Он говорил мне: "Будь ты моею…"
Ходотов осторожно прижал струны ладонью. И вдруг в прихожей весело зазвенел колокольчик.
Александр Ильич Зилоти мигом вошел в тон импровизации, царившей в этот день в доме Прибытковых. Присев к роялю как бы невзначай, он начал кокетливо и шаловливо наигрывать свою любимую фантазию на тему "Летучая мышь".
Рахманинов, не утерпев, поднял крышку другого рояля. Началась "игра в мяч". Вальс, как по волшебству, перерастал в мазурку, в марш, польку, фугу и даже в хорал. Перепрыгивая из темпа в темп, из тональности в тональность, они ни разу не сбили и не потеряли друг друга.
Импровизация кончилась при всеобщем хохоте.
Потом Зилоти нашел на этажерке мелодекламации на музыку Аренского, посвященные Комиссаржевской. Она прочитала тургеневское стихотворение в прозе "Как хороши, как свежи были розы…".
Читала очень просто, без тени пафоса и надрыва: не в том ли была тайна ее неповторимого обаяния!
Когда она кончила, Рахманинов взволнованно поцеловал ее руку, пробормотав: "Спасибо!"
Вскоре Вера Федоровна ушла, пожаловавшись на усталость. Но голос чудесной гостьи долго еще звучал в притихнувших комнатах.
3
В субботу 17 января 1904 года в день рождения Антона Павловича Чехова на сцене Московского Художественного театра шла впервые пьеса "Вишневый сад".
"Художники" полюбили пьесу, но боялись за ее судьбу. Потому решено было, пользуясь присутствием Чехова на премьере, как бы "заслонить" постановку чествованием дорогого для всех именинника.
Вероятно, это было жестоко! Все хорошо знали отношение Чехова к чествованиям и юбилеям, знали, что он тяжело и безнадежно болен, но об этом вовремя как-то никто не подумал.
Пьеса и правда была "непривычная", будила грусть и улыбку, жалость и недоумение. Прощаясь со старым, милым, но отжившим, она протягивала руки новому. А каково будет оно, это "новое"; никто хорошенько еще не знал.
Странно и почти жутко отозвался в ушах торжествующий крик Лопахина:
- Вишневый сад теперь мой. Мой!..
"Чей это "мой"?.." - растерянно спрашивали друг у друга глазами.
После третьего акта началось чествование.
В первую минуту из зала Рахманинов просто не узнал его. Землисто-бледный, с запавшими щеками, он стоял, хмурясь и не поднимая глаз. Только раз губы Антона Павловича едва заметно дрогнули, когда толстяк с прыгающей бородкой начал трескучую речь.
Наверно, на память автору пьесы пришел "дорогой и многоуважаемый шкаф…".
А сколько венков! Похоже на похороны…
Еще на святках по Москве поползли тревожные слухи о каких-то "неладах" на востоке. Чаще прежнего на улицах звучала жесткая дробь барабанов. На набережной, составив ружья в козлы, грелись зябнувшие солдаты. Рахманинов слухам не верил. Его мысли поглотил клавир одноактной оперы на неизменный текст Пушкина "Скупой рыцарь".
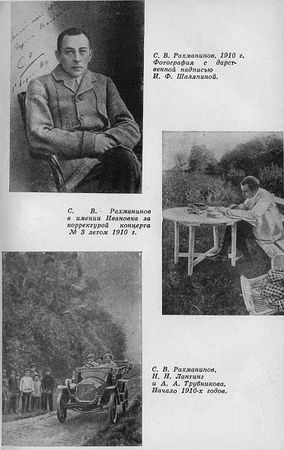
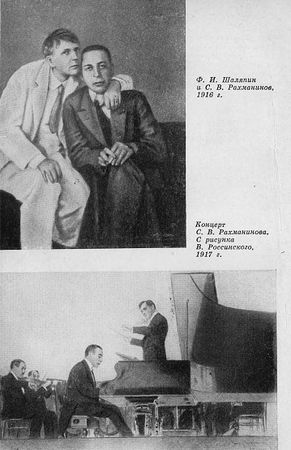
Но вот, возвращаясь с урока однажды в конце января, он услышал исступленные крики газетчиков:
- Порт-Артур!.. Телеграмма наместника!.. Японцы напали на Тихоокеанскую эскадру… Русский посол в Токио отозван… Высочайший манифест о войне с Японией…
Так болтовня и шушуканье по-за углами обернулись явью.
Верноподданные толпы лабазников и горланов с иконами, хоругвями, флагами и портретами "обожаемого монарха", красные, надутые важностью лица козыряющих городовых, остервенелый вой казенных газет, угрозы закидать шапками "желтолицых макак" - все это выглядело достаточно пошлым.
В чем-то его, Рахманинова, самолюбие было задето. Сквозь вопли "ура" и первые смутные вести о небольших еще неудачах он пытался между строчками газет прочитать что-то неизмеримо более важное, в чем была оскорблена Россия.
В начале марта в дневнике у Сергея Ивановича Танеева появилась лаконическая запись:
"…Был в половине второго Рахманинов. Играл "Скупого рыцаря". Прекрасное сочинение. Великолепна сцена в подвале… Много благородной, хорошей музыки…"
Вслед за Даргомыжским и Корсаковым Рахманинов обратился к "маленьким драмам" Пушкина и попытался интонациями мелодического речитатива выразить губительную страсть, опустошившую душу скупца.
В ту пору ему казалось, что страсти человеческие - первый двигатель всего сущего. Из того же зерна родился и замысел второй его оперы - "Франческа да Римини".
В марте Сергея Васильевича неожиданно пригласил управляющий конторой императорских театров и предложил ему пост дирижера Большого театра.
Раздумья пришли только тогда, когда контракт был уже подписан. Тогда он понял, что за материальную независимость и возможность работать с превосходным ансамблем ему придется отдать без остатка все время, предназначенное для творчества.
От инспекторства и уроков он сразу же отказался, сохранив до поры за собой только училище Екатерины.
В апреле прибыли первые раненые из-под Тюренченя. Почти каждый день провожали кого-нибудь, как тогда говорили, "на театр военных действий". В самом названии этом Рахманинову слышалась злорадная издевка.
В начале мая по пути в Ивановку во время долгой стоянки в Тамбове Сергей Васильевич стал свидетелем отправки новобранцев. Длинный ряд порожних вагонов-теплушек стоял на запасном пути. На полотне рядом с поездом гудела возбужденная толпа. Хохот, свист, визг гармошки, липкая ругань и горький бабий плач.
И вдруг все покрыл леденящий кровь пронзительно-звонкий рожок горниста.
С юга, заслоняя солнце и сдержанно грохоча, шла синяя градовая туча.
- По ваго-онам! - пронесся истошный крик.
И воцарился ад. Все побежали. Стоявшая подле столба с узелком в руках молодая бабенка в лаптях с хриплым воем повалилась в грязь, обнимая сапоги новобранца в сдвинутом на затылок картузе. Он был пьян; силясь освободиться, глядел прямо перед собой мутными синеватыми глазами.
Не чуя ног под собой, Рахманинов прошел мимо.
На миг приподнялся край занавеса, и он увидел то, о чем нельзя было прочитать ни в реляциях, ни корреспонденциях с этого проклятого, дьявольского "театра".
В ушах у музыканта немолчно звучали строфы Дантова "Ада":
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям…
Здесь, в Ивановке, этот "вековечный стон" был гораздо слышнее, чем в многолюдной Москве.
С низовьев Волги дули обжигающие суховеи, разнося по полям призрак голода и напастей. Жестокий град до корня выбивал неокрепнувшие полосы озимых.
Нищета, безлошадье…
Вечерами Сергей Васильевич выходил на опушку молодого парка. Слабо мигали степные звезды. Светят они и там, на краю земли, на вершины голых сопок и заросли гаоляна.
Три раза в неделю приходила почта. Все набрасывались на газеты.
Каждому хотелось разорвать вязкую паутину подсахаренных сентенций, глухих реляций Куропаткина о "стратегическом оттягивании армий к Ляояну", увидеть голую правду, как бы страшна она ни была.
Но в один душный июльский вечер паутина нежданно прорвалась, и на мкг все исчезло: и Маньчжурия, и призрак голода, и "Франческа". Из траурной рамки бросилось в глаза одно страшное и бесповоротное слово: "Баденвейлер".
Антон Павлович Чехов…
С минуту Рахманинов сидел, сжав ладонями виски и ничего не видя перед собой. Потом оглянулся. В комнате никого не было. Ирину лихорадило, мать, истомленная зноем, забылась рядом с ней. Только с веранды долетел до него чей-то тихий, горький плач. Войдя, он увидел Соню.
Обняв ее, усадил рядом на камышовом диванчике.
Негромкий голос доктора Чехова еще звучал у него в ушах. Но зеленый огонь в окошке ауткинской дачи погас навсегда.
Так молча сидели они, глядя в наступающие сумерки, и думали о том, что теперь надеяться больше не на что.
Среди лета пришлось бросить работу над "Франческой" и приняться за оперные партитуры. На третье сентября была назначена "Русалка". К счастью для нового дирижера, он, находясь вдали от Большого театра, о многом не подозревал. Щадя покой музыканта, друзья не упоминали в письмах о буре страстей, разыгравшейся при его назначении.
Ветер дул, разумеется, из Русского музыкального общества. Сам Сафонов на этот раз признал за благо остаться в стороне, но, без сомнения, действовал через других.
- Разве с Рахманиновым можно работать! - вздыхали почтенные музыканты. - Без меры требователен, суров, нетерпим.
"Подготовка" была перенесена в гущу артистов, хора и оркестра. Переступив порог театра, Рахманинов сразу почувствовал сомкнувшиеся на нем недоверчивые и недружелюбные взгляды.
В разговоре с ним каждый испытывал чувство неуюта. Худой, высокий, с суховатой ноткой в голосе. Особенно подавлял его взгляд, рассеянный, как бы безразличный.
В первый же день он назначил раздельные репетиции мужчин и женщин к премьере "Князя Игоря".
Кулисы загудели: "Рахманинов всех ругает, на всех сердится. Рахманинов сказал, что никто петь не умеет, посоветовал многим вновь поступить в консерваторию…"
Тут же началась ломка вековых традиций.
Рахманинов велел перенести дирижерский пульт от рампы назад, к барьеру.
- Я хочу видеть перед собой оркестр, - заявил он.
Певцы возроптали: "Это просто черт знает что такое! А как же мы-то, мы увидим его палочку?!."
Запротестовал и Альтани. Пытаясь унять закипающую бурю, дирекция распорядилась, "по дирижеру глядя", переносить пульт для Альтани вперед, а для Рахманинова назад.
Но вскоре Альтани признал правоту своего преемника.
Преемник же в театре держался невозмутимо, а придя домой, без сил падал на кушетку.
Шла зима. Бесновались вьюги. Из последних сил бился гарнизон Порт-Артура, среди сугробов дымились землянки на реке Шахэ, а море среди непроглядной тьмы било в железные борты кораблей второй Тихоокеанской эскадры, державшей путь через три океана к Цусиме.