Если в пору детства - в Разливе и на Литейном в квартире Холодовой - занимали сказки Шварца, то в писательской надстройке привлекали его рассказы иного толка. Устные миниатюры - небольшие жанровые зарисовки - появлялись на ходу, но сюжеты предварительно были схвачены его зорким глазом. У него был дар интерпретировать какую-нибудь историю посредством мимики, жестов, тембра голоса. Несколько "номеров" Шварца сохранились в памяти.
Как-то он "показал" непревзойденного пародиста Ираклия Андроникова в момент его перевоплощения в нескольких писателей "надстройки". Ираклий, его жертвы и сам Шварц выглядели убедительно и смешно. В другой раз Евгений Львович изобразил визит писательницы Лидии Сейфуллиной к гипнотизеру в связи с ее привязанностью к алкоголю. Шварц показывал, как косноязычный лекарь убаюкивает писательницу гипнотической колыбельной: "Вы не пете, не пете, не пете…". Особенно удалась ему заключительная сцена, когда Сефуллина произносит "Пю!" и уходит. Иным был его рассказ о "дружбе" антиподов - Михаила Шолохова и Ильи Эренбурга. Евгений Львович поведал о литературном кворуме, на котором автор "Тихого Дона" с трибуны спросил Эренбурга, какую страну он считает своей родиной. Шварц озвучил ответ Ильи Григорьевича: "Своей родиной я считаю страну, которую предал казак Мелихов".
Наташа была похожа на отца. Их сближали не только улыбка, выражение глаз, тембр и мягкие интонации голоса, но и умение подмечать детали. Подобно отцу, она любила рассказывать. Как и он, выхватывала из окружающей среды сюжеты, превращая их в окрашенные юмором истории. В качестве одного персонажа фигурировал школьный учитель с оригинальной речью: "Греки запирали вороты, а скифы скидовали одежды". Забавным был рассказ о согрешившей на ее глазах собачке и участии в собачьих родах.
Трагикомическая история связана с подарком для Наташи к ее 18-летию. Я с трудом накопила необходимую сумму, купила одеколон "Эллада", флакон в день ее рождения разбился, на полу жидкость вступила в реакцию с мастикой, а мы, ползая, орошали свои тела смесью мастики и одеколона. Наташа была режиссером этой забавной сценки. Потом Шварц, иронично посмеиваясь, поинтересовался: "Кто более ароматен - Натуся или Танюха?". Ганя считала, что "Элладу" сгубила наша безответственность. В ее интерпретации осуждение носило характер вопрошающего прогноза: "И кто тебя, Наталья, замуж возьмет?!". Ганя как в воду глядела…
Весной 1948 года Наташа пришла к нам на Старо-Невский в сопровождении Олега Леонидовича Крыжановского. Москвич, фронтовик, ученый-энтомолог находился в Ленинграде в длительной командировке. Он снимал комнату в коммунальной квартире на Литейном, где жила семья Холодовой. Между Наташей и Олегом завязался квартирный роман, спустя год завершившийся свадьбой в той же квартире. Свадьба не отличалась от обычной вечеринки, да и жених уже не казался стариком. Отсутствие Евгения Львовича можно объяснить молодежным составом присутствующих и решением новобрачных провести вечеринку без опеки родственников. Полагаю, отец не был в восторге от такого решения.
Это было неспокойное для Шварца время: его тревожила судьба единственной дочери, любимой Натуси. Поначалу он без восторга, если не более того, воспринял перспективу союза домашней девочки-первокурсницы и сложившегося 30-летнего мужчины. Как показало будущее, эта история получила светлое продолжение. Согласно поговорке, они жили долго, счастливо и умерли в один день - с разрывом в год. Олег Леонидович и Наталья Евгеньевна провели вместе 47 лет. Они дышали одним воздухом, смотрели в одну сторону, слышали друг друга в различных ситуациях. Их не покидала терпимость, взаимная бережливость, доброжелательность, юмор. Потеряв жену, Олег продолжал воспринимать ее в настоящем времени. "Люблю Наташу", - писал он мне.
Писал он и о Шварце - отмечал издание его произведений, открытие мемориальной доски на стене дома на Малой Посадской ул, д. 8 (2), последнем его жилище, горевал об уходе родных. Свекор и зять общались девять лет, и все это время их связывали не только родственные, но и обоюдно уважительные отношения. Шварцу, далекому от биологической науки, случалось консультировался у Крыжановского. В начале 90-х годов Олег подарил мне его дневниковые записки "Живу беспокойно"… Вручая том, посоветовал обращаться с ним бережно. "Почитывайте Евгения Львовича и не забывайте нас", - сказал он.
После отъезда Крыжановских в Москву я перестала бывать в писательской "надстройке". Мы с Евгением Львовичем встречались то в Книжной лавке писателей, то в Театре комедии… Всякий раз разговор касался московской жизни Наташи и маленького Андрюши. Какое-то время он планировал переехать в столицу. Шварц заметно пополнел, но был узнаваем; сохранились мягкая улыбка и веселый прищур глаз. Встреча с Крыжановскими произошла в 1954 году после их возвращения в Ленинград. Тогда же я познакомилась с 4-летним Андрюшей и новорожденной Машенькой. Затем некоторое время провела вне Ленинграда, а когда вернулась, то Евгений Львович был серьезно болен, и больше мы не виделись.
Застолье по случаю наступающего 1958 года происходило у Холодовой. Во главе стола сидела уже очень старенькая бабушка Исхуги Романовна, ангел-хранитель семьи дочери. Новогоднее настроение омрачало ухудшающееся состояние здоровья Евгения Львовича. Все знали, что последний год стал для него столь трудным, что ему пришлось оставить любимое Комарово и переехать в город. До боя курантов Наташа по телефону поздравила отца и Екатерину Ивановну. Она обвела взглядом присутствующих и сказала: "И Танечка Белогорская с мужем здесь". Сидя рядом, я чуть ли не вкладывала ухо в трубку - хотелось уловить знакомый голос. И услышала… в последний раз. На том конце провода Евгений Львович повторил мое имя.
Через две недели Наташа спросила, стоит ли брать восьмилетнего Андрюшу на похороны дедушки. Подумав, она сказала: "Надо Андрюшу взять. Нельзя воспитывать эгоиста".
Екатерина Ивановна потеряла мужа после 29 лет брака. Без него потянулись 5 невеселых лет. Она никогда не отличалась здоровьем, курила, нервы шалили… Детей у нее не было, круг близких людей ограничивался Заболоцкими и Чокой. Лишившись главной привязанности и опоры, она сама ушла из жизни.
Шварц остался в памяти современников и потомков.
Мне запомнился такой случай. В день показа "Тени" в Театре Комедии пожилая зрительница остановилась в фойе перед его портретом. Сказанное ею говорит само за себя: "Сам ушел преждевременно, но оставил две тени - плохую и хорошую. Которая на сцене - плохая, принадлежащая ему - необычная, светлая. Больше не будет автора с двумя тенями - светлой и темной". Затем она склонила голову перед акимовским портретом Евгения Львовича. В сущности, зрительница повторила некогда сказанное Сергеем Образцовым: трудно подобрать Шварцу параллель.
В 1978 году появился фильм Марка Захарова "Обыкновенное чудо" по сценарию Шварца. Прелестную песенку исполнял Андрей Миронов: "А бабочки крылышками так, так, так…". Бабочкам случается войти в историю вместе с такими их покровителями, как Набоков и Шварц; оба в последнюю минуту вспоминали своих бабочек.
В начале 80-х годов Крыжановские познакомили меня с однофамильцем Евгения Львовича. Талантливый режиссер Лев Шварц руководил народным театром "Четыре окошка", где поставил пьесу-сказку "Дракон". Режиссерская трактовка совпадала с эстетикой пьесы, а игра любителей отличалась профессионализмом, что принесло спектаклю популярность. Я смотрела его несколько раз. Отправляясь в театр, шутила: "Иду на встречу с двумя Шварцами и одним Драконом". Спектакли проходили в крохотном зале; в подобном в Ростове 60 лет назад выходили на сцену юная Гаянэ Холодова и братья Антон и Евгений Шварц.
После спектакля Лев Шварц устраивал обмен впечатлениями. В тесном кругу - у самовара - собирались ценители творчества автора пьесы и работы исполнителей. Когда настал мой черед, сами по себе появились рифмы.
Из ваших "Четырех окон"
прекрасно смотрится "Дракон"
и, думается, Шварц Евгений -
гонитель зла и преступлений -
сказал бы добрые слова
о режиссуре Шварца Льва.
Через 28 лет после кончины Евгения Львовича состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня его рождения. В Доме писателей, который Шварц любил и где проходило прощание с ним, присутствовало немало молодежи. Наташа говорила об отце - человеке и мастере, жизнь которого была освещена юным поколением. В сущности, она затронула вечную тему преемственности поколений, когда подчас трудно разобраться с личностью и ее восприятием потомками. Впоследствии мы с Наташей обсуждали эту тему - говорили о том, что Шварц не встречался с Андерсеном и Сервантесом, но стал продолжателем посеянного ими добра. Нынешняя молодежь не видела никого из мастеров, но ценила созданное каждым. Ушла их эпоха, а они, как часть бытия сменяющегося поколения, остались современниками. И на языке Ланселота и Дон Кихота продолжают говорить "да" добру и "нет" злу.
У меня сохранился пригласительный билет на тот вечер памяти.
Гаянэ Николаевна пережила Евгения Львовича на четверть века. За длительный срок общения с первой женой психолог Шварц изучил ее непростой характер, подчас оценивал его негативно. Как южанка, она обладала фонтанирующим темпераментом. Актерская профессия тоже способствовала эмоциональным всплескам. Скучающий взгляд и женская хитрость не были ее жанрами. На моей памяти немало ее непримиримых протестов, когда она выступала защитницей правды. Особенно ее волновали судьбы детей. В разные годы она отводила в приемники бездомных малышей. В таких эпизодах участвовал Евгений Львович, а позднее Наташа. По природе Шварц и Холодова были настроены на детство, и это проявлялось в отношении к дочери. Родители действовали рука об руку - двери дома Холодовой для отца всегда оставались открытыми. Заботясь о судьбе Наташи, Ганя не сделала ее инструментом мести. Дочь, а впоследствии и внуки, постоянно находились в эпицентре отношений бывших супругов.
Она оставалась верна дочернему долгу по отношению к Исхуги Романовне, прожившей 88 лет и скончавшейся почти одновременно с Евгением Львовичем. Экспансивность Гани уживалась с ответственным подходом к воспитанию дочери. Она знала цену дружбе, не оставалась в стороне от чужих дел, о чем свидетельствует внимание, годами оказываемое моей семье. Если отбросить эмоциональную упаковку, то Холодова была широкой натурой, человеком с собственным лицом и незыблемыми принципами.
Появление общей с Евгением Львовичем правнучки Гаянэ Николаевна приветствовала фразой "Здравствуй и прощай…" (3).
К сожалению, Шварц не дожил до появления стихов внука, поэта Андрея Крыжановского. Дедушка познакомился с ним в Москве, где он родился в 1950 году, и радовался появлению мужчины в семье. Андрюша относился к типу детей, о которых врачи и психологи говорят: ум - главное направление развития. Не случайно его крестная Феня, жившая в семье Крыжановских, с раннего возраста пророчила ему будущее. "Он умнее вас всех", - приговаривала она. Наташу пугало написанное им в отрочестве. Как-то она сказала мне: "Я боюсь за Андрюшу. Он так глубоко копает…". Мать - первая из членов семьи - поняла, какая масса эмоций владеет сыном.
Короткая, но яркая жизнь Андрея показала, что ни один вид деятельности не способен был заменить ему занятие поэзией. Рифмовать он начал в 7 лет, в 19 говорил стихами, став взрослым, признался: "Я думаю стихами".
Как Шварц, Андрей ценил слова, посредством которых передавал свои ощущения. Как дед и родители, он любил животных. Его дед мечтал быть романистом и стал писателем; отец с детства увлекался энтомологией и стал ученым с мировым именем; внук и сын видел себя поэтом, и его мечта сбылась. Не по вине Андрея Крыжановского его творчество не стало общим достоянием. Не успело стать… Опередив родителей, он ушел досрочно. Дед и внук покоятся рядом.
P. S. На рубеже веков в американской газете была опубликована небольшая статья под названием "О сказке Евгения Шварца, которую не читал он сам". Спустя 65 лет очевидец вспомнил, как в Кирове (Вятке) в суровом 1942 году Евгений Львович сочинил сказку на глазах у школьников. В ней все было наоборот: танки не разрушали, а возводили прекрасные дома, истребители оставляли на земле пышные сады и газоны, на месте упавших бомб тянулись к небу высокие деревья… Бывший ученик 8-го класса, на всю жизнь запомнивший сказку, назвал встречу с ее автором очарованием и чудом доброты. Вспоминая Шварца в роли рассказчика - импровизатора, мемуарист выполнил свой долг (4).
2010 год.
Springfield, Illinois, USA.
Татьяна Сойникова
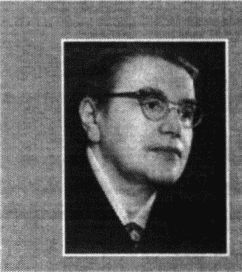
Беседы 1968 год
Я пришла в техникум ТЮЗа в 1932 году, когда первый набор учился уже второй год. У меня и Бориса Вульфовича были группы ребят. Я была ученицей Хохлова. А он старый мхатовец, и меня, кажется, Макарьев пригласил в техникум. У Зона и у меня группы получились несколько разными. В разные стороны немного шло учение. И мы решили объединиться. В 35 году состоялся выпуск "Снегурочкой". А еще осенью 34-го к нам пришел директор ПионерТРАМа и пригласил тюзовцев играть на площадке театра. Театр был совершенно самодеятельный, спектакли не посещались, помещение пропадало зря. Со "Снегурочкой" мы перебрались на улицу Желябова. Успех спектакля был большой, он бурно посещался и взрослыми. Так образовался филиал ТЮЗа. Потом мы перенесли на эту же сцену "Клад".
Старый ТЮЗ из спектаклей делал представление для ребят. Их веселили, забавляли, заставляли плакать. Почему-то считалось, что ребенок не может вникнуть глубоко в идею, в мысль спектакля, и поэтому решение шло несколько поверхностно. Мы же работали для ребят, как для взрослых, только репертуар у нас был иной. Мы считали, что если ребенок и не сразу поймет что-то, то это дойдет до него позже. Вопрос стоял о глубине раскрытия. На сцене всерьез создавалась судьба человека. И в этом, по-видимому, и был успех и у детей - они чувствовали, что с ними разговаривают на равных, и у взрослых зрителей.
Труппа разделилась летом 36 года, когда юридически мы уже не были филиалом, а фактически - еще в сезоне 35/36 гг. К нам перешли прекрасные актеры - Блинов, Лукин, Уварова, Любашевский, Беюл, Емельянов, Чирков. К нам пришли - Ф. Никитин, Усков, Колесов. Колесов тогда подавал громадные надежды, это должен был быть великолепнейший актер. Да и многие с тех пор растеряли как-то себя. Исключение составляет только, пожалуй, Уварова, у нее диапазон всегда был очень широк.
Удивлялись обилию талантов нашей труппы. А удивляться надо было коллективу. У нас не выпускался актер неподготовленным. Нам удалось создать творческую обстановку во всем театре, начиная с вешалки. Каждые 10 дней труппа собиралась на декадники, где обсуждались все вопросы, все недоразумения и творческого, и бытового порядка, даже сплетни, любое столкновение выносилось на декадники.
Когда-то это пытались сделать и в старом ТЮЗе, но у них это как-то заглохло. И там тоже всегда была чистая атмосфера, но мы довели ее до высоты. Дублеры работали вместе. Они играли одного и того же человека, но индивидуальность актера делала их разными. У нас было три Марины (1), и часто двух можно было видеть за кулисами, наблюдающими за игрой первой. И потом - услышать, что все трое обсуждают ее игру, что-то советуют. Мы старались каждый спектакль сделать репетицией, раскрытием на будущее. Это была очень серьезная работа вглубь, обретение свободы, а она обретается, когда нет насилия, актер самостоятельно ищет и находит в контакте с режиссером.
На протяжении всей истории театра, правда, небольшой, у нас не было случая, чтобы спектакль был снят с репертуара. "Снегурочку" сняли только тогда, когда совершенно продырявились декорации, но мы ее заново репетировали, но выпуску помешала война. Перед открытием сезона все спектакли заново репетировались, причем искалось что-то новое, многое пересматривалось.
"КЛАД". При постановке "Клада" Зон уже ездил к Станиславскому. Этот спектакль был первым "подопытным кроликом" результата этих поездок. Здесь началась проводиться на сцене та углубленная жизнь. Первые опыты с неподготовленными людьми, это немножко затежелило спектакль, но была прекрасная Охитина, Лукин, Блинов, Емельянов, ребята - Казаринова и Орлова. Еще не было абсолютного ансамбля, но уже кое-что начиналось. Мне кажется, что было не очень удачное оформление, тяжелое (2). Это нагромождение кубов…
"БРАТ И СЕСТРА". Превосходно играл Кадочников старика (3). М. О. Янковский на просмотре сказал: "Куда же вы лезете? У вас все лучше и лучше!" Перед тем, как перейти к самой пьесе, делали этюды. Некоторые реплики Шварц записывал и вводил в текст. Многое было найдено на репетициях.
"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА". Определился очень хороший состав. Очень хорошо оформила спектакль Якунина. И тема андерсеновская - горячих и холодных сердец - очень легла на труппу. Идейная сторона спектакля у нас шла всегда главной. Сверхзадача - чувственная, не дай бог, если она умственная. А тема о горячих и холодных сердцах у нас звучала всюду - и в "Музыкантской команде", и в "Третьей версте" (4). А здесь она стала главной. В этом спектакле впервые появилась люминесценция. Ею были наполнены сны. К нам примчалось два инженера, которые изобрели эти краски, и мы экспериментировали. Особенно не давалась сцена во Дворце королевы. Здесь мы решили залюминесценировать всего Кея, и костюм, и грим. В общем, старались найти более зрелищное решение.
У нас не было такого спектакля, который не посещался бы Зоном, мною или Чеснаковым. Потом мы организовали группу избранных из актеров, которые ходили на спектакли, если мы не успевали, и делали нам потом отчет.
Шварц бывал на репетициях сплошь. Особенно в первый период. Он схватывал реплики актеров, если они ему нравились, когда они бродили по сцене в этюдах, нащупывающих действие. Правил текст на репетициях. Он хватал любое предложение и тут же дрожащей рукой, посмеиваясь и остря, записывал. Особенно много он использовал кадочниковских импровизаций. Тот был любимейшим актером Шварца (5).
Он бывал участником наших капустников. Самые веселые бывали 5 мая. В одном из них Е. Л. играл пожарника в каске, в серой куртке. Это было удивительно смешно. У нас однажды, чуть ли не во время генеральной репетиции, на сцену вышел пожарник, осмотрелся и говорит: продолжайте, продолжайте, - и ушел. В другой раз - на сцену выскочила кошка. Зон тогда яростно кричал об уничтожении всех кошек. И вот Шварц торжественно вешал бутафорского кота. Все лежали от хохота, как он это проделывал. Или в самое неподходящее время он подходил к кому-нибудь из нас и говорил, что его к телефону, или еще что-нибудь в этом же роде.