Серьезные юноши 1814 года… "Страсть к игре, как мне казалось, исчезла среди молодежи". Матвею Муравьеву вторит Якушкин: "Перед войной в Семеновском полку офицеры, сходившись между собою, или играли в карты, без зазрения совести, или пили и кутили напропалую". Теперь - артель, совместные обеды, после которых "одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе - такое времяпрепровождение было решительно нововведением".
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом…
Поэт Федор Глинка в старости вспоминает "семеновскую юность"…
Но можно ли поверить? Не слишком ли юноши 1814 года стары? Ведь на дворе пушкинское время: где же Вакх, где "подруги шалунов", где сами шалуны?
Лицейские, ермоловцы, поэты…
Пушкинское время. Горе от ума еще впереди, пока же от ума - радость. Ну конечно, случается, проговорят весь вечер, "а об водке ни полслова", но куда чаще гимн разуму произносится с поднятыми и разом содвинутыми стаканами. По понятиям некоторых болтливых стариков - "вы, нынешние, нутка" - и повеселиться не можете; но лицейские и ермоловцы не хотят того веселья, что процветало 100 лет назад: прочь, "ребяческий разврат".
"Брат мой Сергей… вознамерился оставить на время службу и ехать за границу слушать лекции в университете, на что отец не дал своего согласия".
Одна такая фраза может быть значительнее целых томов биографических материалов. Но - увы! - только одна фраза… Что происходит с Сергеем? Потянуло к математике? Вспомнились парижские разговоры об ученой карьере? Или цель его - не "плоды наук", а "добро и зло, гроба тайны роковые", то есть, проще говоря, лекции по философии, праву, богословию? Почему он вдруг желает оставить армию? Опротивело или, наоборот, собирается затем вернуться на службу с пользой для дела?
Не знаем. Сергей Иванович не раскрывается. Вежлив, весел, общителен. Но о главном думает молча. В эту пору собирается уйти, уехать немалое число лучших офицеров. Троюродный брат Михаил Лунин оставляет блестящую кавалергардскую службу, ищет смысла жизни, обитая близ "парижского дна", но Сергею Ивановичу отец запрещает или решительно не советует. Почему же? Ведь отец сам готов бескорыстно служить человечеству и проклял свое прежнее честолюбие… Впрочем, Иван Матвеевич никогда не страдал от избытка последовательности. И по желанию отца Сергей вскоре становится поручиком Семеновского полка. Вместе с Якушкиным, братом Матвеем и некоторыми другими примечательными людьми.
Якушкин: "Одни раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое общество. Матвей и Сергеи Муравьевы на предложение Александра отвечали почти то же, что и я. После некоторых прений Александр признался, что предложение составить общество против немцев было только пробное предложение, что сам он, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом, положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, но совсем бесплодно для России".
Дату этого собрания помнили и через много десятилетий: 9 февраля 1816 года; вчерашние победители Наполеона, повзрослевшие создатели детской республики "Чока"…
"Немцы" в этих рассуждениях очень похожи на "французов", против которых прежде ополчался Иван Матвеевич.
Но дети, отдав легкий поклон тем, кто возражает против немецких и французских излишеств, соединяются в Союз спасении. Иван Матвеевич, возможно, сказал бы, что нельзя спасать, коли никто на помощь не зовет. Но тут уж дети с племянниками нашли бы, что ответить…
Послушать тот спор младших и старших интересно. Правда, прямых записей старинных диалогов и дискуссий почти не сохранилось, однако есть разные способы услышать "умолкнувшие речи".
В Киеве, на Владимирской улице, - Научная библиотека Украинской Академии наук. В библиотеке - отдел рукописей. Как все архивы, место не совсем обычное, временами странное, зачарованное, заколдованное, что ли. Тысячу раз написано и десять тысяч раз будет написано, как исследователь в архиве переносится в прошлое, забывает, сколько с тех пор прошло лет, веков… От частого повторения образ стирается, и рождается подозрение, будто это не совсем так: в конце концов архив - почтенное государственное учреждение, куда люди приходят писать диссертации, книги, статьи, то есть заниматься вполне современным делом, а не "переноситься"… Но даже тысячекратное повторение фраз вроде "архивная пыль приносит запах ушедших веков" и т. п. не может совсем зачеркнуть то обстоятельство, что ушедшие века и в самом деле являются. Автор, привыкший к архивам, все же однажды забылся и понюхал розовый листочек, несомненно, надушенный той ручкой, которая вывела несколько французских строк почерком немыслимого изящества… Но в 1970-х годах листочек уж пахнул бумагой; на нем стояла дата. 16 июля 1826 года.
Из шкафов отдела рукописей на Владимирской улице, всего одной строчкой на бланке заказа, легко вызываются добрые и злые духи: украинская старина, латинские стихи, разучивавшиеся в Софийской духовной академии, малабарская рукопись на 138 пальмовых листах, старинные записи запорожских песен, грамоты польских королей и красно-золотые фирманы турецких султанов, зеленый с застежками альбом юной помещичьей дочери мадемуазель Петрулиной, где твердым гусарским почерком какого-то Жана Черткова выведено:
Когда мы будем жить в разлуке.
Когда не буду зреть тебя,
Тогда возьми альбом сей в руки
И вспомни, кто любил тебя.
150 лет назад за двести с лишним верст к востоку от Киева, в барском доме имения Хомутец, хранились тысячи писем, деловых документов, рукописей на многих языках, составлявших то, что мы бы сегодня назвали "архив Муравьевых-Апостолов". Но судьба разметала детей, неведомо куда забросила почти все бумаги отца. В двадцати же верстах от Хомутца, в Обуховке, жил сосед-помещик и поэт Василий Капнист, который уже не раз появлялся в нашем рассказе. Судьба этой семьи - более спокойная, благополучная, и потомки архив сохранили.
Написав на архивном бланке римское III и несколько пятизначных арабских чисел, вскоре вижу на своем столе более 170 страничек: это лишь небольшая часть писем, полученных Василием Васильевичем Капнистом с 1813 по 1823 год.
Мы прислушиваемся к громким голосам отцов, помня слова Юрия Тынянова.
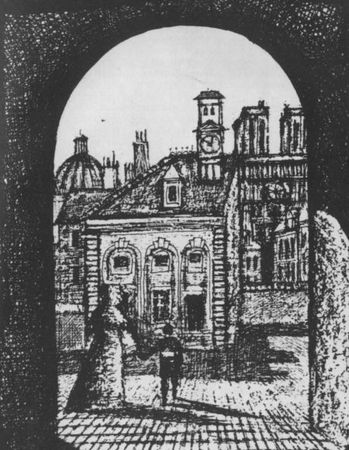
"Сам человек - сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него".
"Апостол, урожденный Муравьев, вчера приехал на берег Хорола, желает знать о здоровий знакомых ему прибрежных жителей Псела. Он очень устал с дороги, и коль скоро немного отдохнет, то непременно будет на поклон к обуховским пенатам" (даты на письме нет, но водяные знаки на бумаге - 1815 года, а время написания - не позднее 1817-го).
Попробуем, "по Тынянову", договорить за него. Перед нами торопливая, но изящная "отписка", где не сообщается, зачем литератор, тайный советник и бывший посол во многих державах прибывает (и надолго) в те края, куда почта из столицы доставляется примерно через две-три недели, где гостя провожают за 50–70 верст, где подают "грушевый квас с терновыми ягодами, варенуху с изюмом и сливами, кутрю с молоком" и где образованный хозяин Обуховки, надевая на головы дочерей сплетенные им самим венки, разрешает говорить по-русски только за ужином, но особенно любит переходить "с французского на малороссийский".
Узнав, что Иван Матвеевич считает главной причиной переезда в эти края, постараемся услышать еще более главное - обещанный спор с детьми…
Но все по порядку, полтавские картины 20-х годов прошлого века не любят торопливости.
"Соседство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, бывшего посланника в Испании, было для нас очень приятно… Промотав имение свое, он не имел средств… Отец мой посоветовал ему ехать к родственнику своему в Малороссию, что он и исполнил, получив от того четыре тысячи душ в потомственное владение и фамилию Апостола… Так как после смерти Апостола настоящие наследники, с досады, сожгли дом его и вырубили лучшую в саду столетнюю липовую аллею, то Муравьев помещался в то время в небольшом экономическом доме, стоявшем на плоском и низком месте, окруженном небольшим фруктовым садом. Он жил, можно сказать, роскошно. Несмотря на скромное помещение свое, роскошь его состояла в изящном столе. Он, как отличный гастроном, ничего не жалел для стола своего. Дородный и франтовски одетый испанец, мэтр д’отель, ловко подносил блюда, предлагая лучшие куски и объясняя то на французском, то на немецком языке, из чего они составлены, - с хозяином же он говорил по-испански".
Вспоминает Софья Васильевна Капнист (в замужестве - Скалон), одна из дочерей поэта; ее записки остаются важнейшим свидетельством и отчасти "договаривают" за Ивана Матвеевича и других тогдашних жителей Псела и Хорола.
По-прежнему долги, сотни тысяч рублей, ушедших на радости жизни, "изящный стол на первом месте". Дети старшие как будто устроены, хотя служить в гвардии убыточно. А души и десятины все закладываются и перезакладываются. Оказывается, что 4000 бывших подданных Михайлы Даниловича Апостола (а с ними - 10 000 десятин земли!) - пустяк.
"Муравьев - Алкивиад, - ядовито замечает родственник и поэт Константин Батюшков. - Готов в Афинах, в Спарте и у даков жить весело". Афины и Спарта - столицы, древнегреческие Петербург, Москва; но даки, среди которых коротал век Овидий, - это нечто вроде тогдашней Полтавщины?
В одном из архивов сохранилась курьезная переписка Ивана Матвеевича с министром юстиции: дело в том, что из Испании пришел счет от повара, услугами которого русский посланник пользовался 15 лет назад. Муравьев клянется, что давным-давно "перевел повару 40 316 реалов, что составляло тогда 3359 рублей, и с тех пор забыл, что он существует". Но поскольку повар из-за семи морей жалуется, что своих реалов не получил, Иван Матвеевич платит второй раз; меж тем "славный кулинар" умирает, его вдова жалуется Александру I, что денег все нет, и из Хомутца безропотно платят в третий раз! Кажется, Ивану Матвеевичу даже поправилось, что у него был когда-то в Мадриде не простой, а столь дорогой повар!
Девиз Ивана Матвеевича: "Пока жив - хочу наслаждаться". И это уже целая общественно-политическая программа, успехи которой видим хотя бы из такого письма:
"Пану Хорольскому не было до сих пор досужего часа поклониться Пселу-Иппокрене. - Да к тому же и способов не было: иппов всех забрал Синельников, а поэтическая крена, или крина, или креница (какая находка для Шишкова!) за 20 верст от прозаического Хорола".
Как легко две украинские речки сливаются с мифологической Иппокреной, простые лошади, взятые губернатором Синельниковым, уж древнегреческие иппосы, а поборник старинной речи адмирал-писатель Шишков должен засвидетельствовать права счастливого автора.
Так забавлялся около 1817-го полтавский родитель петербургских детей…
Теперь прислушаемся к детям.
"У многих из молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ее ничтожной обстановке, что увидеть перед собой прямую и высокую цель почиталось уже блаженством, и потому немудрено, что все порядочные люди из молодежи, бывшей тогда в Москве, или поступили в Военное (тайное) общество, или по единомыслию сочувствовали членам его" (Якушкин).
"Избыток жизни", "блаженство" - слова те же, что в декларациях отцов. Сергей Апостол, почти как Иван Матвеевич, защищает право "жить весело". "Будь я поэт, - обращается он к Батюшкову-поэту, - я натер бы самых мрачных красок, чтобы вырвать тебя из рук того отвратительного чудовища, которого тебе и знать бы не следовало. Я сказал бы тебе: "В мрачном вертепе, среди болот, удушливые испарения которых распространяют в даль свое вредоносное действие, царствует Скука, незаконное порождение музы, настигнутой во время оно зловредным духом… Беги, беги, молодой человек, сих зачумленных пределов, проклятых богами; бойся пагубного влияния и предоставь сей приют несчастным поэтам, осужденным Аполлоном и квакающим в грязи, в которой они валяются".
Расправившись со скукой, Сергей затем борется со злом по формуле "будь я философ-платоник", затем "будь я эпикуреец": "Если парка сплела тебе лишний день, считай себя в прибыли…"
Сергею Апостолу некогда скучать. Оба брата приняты в масонскую ложу "Трех добродетелей", Сергей даже церемониймейстер ложи". А старики в Полтавской губернии, случайно о том проведав, улыбаются и вспоминают, как в молодости, при Екатерине, тоже забавлялись подобным образом. Впрочем, в отличие от детей, здесь ничего не скрывают, и смысл жизни излагается почти в каждом послании.
И. М. Муравьев-Апостол - В. В. Капнисту 4 ноября (без года), (хранится в Киеве, в отделе рукописей): "Если не противно тебе будет сидеть за столом на стульях работы Кирила Сапка, и не погнушаешься простой трапезой из глиняной посуды, я завтра буду ждать тебя, Капнист, до захождения солнца. Вино ты будешь пить у меня из винограда, что растет между Яссами и Бухарестом, в бочки разлитое… Буде есть у тебя лучше, привези с собой, а в моем доме будь хозяин. Для тебя уже пылает огонь на очаге моем, вычищены диваны, трубки и чубуки. Оставь на один день попечения твои о винокурне, заботы о приращении доходов, тяжбу… Завтрашнее число, ради мученика Галактиона, можно отдохнуть от хлопот и целые сутки провести в дружеской беседе. К чему мне кусок хлеба, если не есть его с добрым другом! Кто жмется да скупится, сберегая карман наследникам, тот недалеко от себя ищи безумного. Я, чтоб о мне ни говорили, хочу начать пить и веселиться. Чего в хмелю не предпримешь. Хмель открывает сокровенное, в душе родит надежды, труса толкает в сраженье, с печального снимает бремя… Кто не красноречив за доброй чаркой? Кто с ней не забывает скудость свою? На этакое дело нет человека способнее меня. Черной скатерти не увидишь, ни вчерашних салфеток, от коих можно нос поморщить; стаканы и рюмки хоть глядись в них, и между гостями не будет такого, который бы вынес говоримое за порог… Я для тебя приглашу Трохимовского, Корбута и Глокера, если голубка жена его, которая ему дороже всех пиров на свете, позволит ему от себя отлучиться. Пожалуй, место будет и теням, только лучше как попросторнее; худо там естся, где локтям не свободно. Итак, если захочешь посетить меня, отпиши, и, оставя заботы, обмани калиткой поверенного, ожидающего тебя у ворот".
Калиток много. Все дело в том, какую выбрать…
Находясь в веселом расположении духа после удачного смотра, император обращается к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он наконец с военными поселениями. Киселев говорит, что его обязанность верить в пользу военных поселений, "потому что его императорскому величеству это угодно; но что сам он тут решительно ничего не понимает. "Как же ты не понимаешь, - возразил император Александр, - что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов"".
Вероятно, Александр и в самом деле искал добра, но, в противоположность греческому царю, от прикосновения которого все превращалось в золото, здесь все чернеет: разговоры и кое-какие меры в пользу крепостных - крепостным хуже; конституция Польше, тайные проекты будущей конституции для России - и аракчеевщина. Расходы на улучшение дорог - дороги не лучше, крестьяне разорены работами. Мечты о том, чтобы Россия вследствие военных поселений не рыдала от рекрутских наборов, - рыдает и от тех, и от других.
К тому же царь Александр впадает в павловское заблуждение: запреты, расправы, может, прежде и хуже бывали, но всему свое время - Павла задушили люди, уж хлебнувшие "екатерининских свобод". Александр ограничивает тех, кто однажды вздохнул в 1801-м и еще свободнее - в 1812-м; то есть просвещенных полтавских старичков и петербургских гвардейцев.
Василий Васильевич Капнист имел устойчивые привычки: "После обеда, отдохнув самое короткое время на диване в гостиной, выпив с трубочкой свою чашечку кофею, он сходил по террасам вниз в свой любимый небольшой домик, выстроенный на берегу реки и окруженный высоким лесом, где царствовали вечный шум мельниц и вечная прохлада; здесь по большей части он писал все, что внушало ему вдохновение".
К нему часто приходят крестьяне за советом или с жалобою на несправедливости и притеснения исправников и заседателей.
Софья Капнист помнит, "в какое негодование, в какой ужас он пришел раз, когда увидел, катаясь зимой по деревне, в сильный холод и мороз, почти нагих людей, привязанных к колодам на дворе за то, что они не платят податей. Он немедленно приказал отпустить их. Он так был встревожен этим зрелищем, что, приехав домой, чуть было не заболел и впоследствии своим ходатайством лишил исправника места".
Старик Капнист так любил свою Обуховку, что собирался уехать в Америку, если бы при разделе с братьями она ему не досталась.
Иван Матвеевич, по наблюдениям дочери Капниста, явно исповедует ту же веру.
Он любит гостей, которые в Хомутце, рассаживаясь вокруг камина, беседуют, читают вслух и восхищаются чудным пением хозяина и дуэтами с прекрасной его дочерью Еленой… Старик был до неимоверности учтив, ласков, приветлив к гостям.
Много лет спустя Софья Капнист напишет: "В нынешний эгоистический, холодный век такая любезность, конечно, казалась бы смешною, но в то время она, истинно, была трогательна".
"Эгоистический век" придет, когда состарятся сыновья и дочери любезников. Но успеют ли состариться?
Гвардия в Москве. Если поверить случайному письму Сергея Ивановича к Ожаровскому (сохранившемуся в архиве), то главные события выглядят так:
"Долгие дни, оживляемые лишь свадьбами; Каблуков женился на Завадовской, Обресков на Шереметевой, конногвардеец Сергей Голицын - на юной графине Морковой и 300 000 рублях впридачу. Но Вы не думайте, что я собираюсь под ярмо Гименея; по Вашему совету - жду самую прекрасную, самую умную и любезную москвичку, хотя соблазн велик - и тогда, когда найду, я оставлю службу императорскую, чтобы посвятить себя ей - и стать философом… Никита здесь и чувствует себя хорошо; Ипполит более учен, чем Аристотель и Платон и очень важничает" (по-французски - буквально - "выглядит как новый мост").
Шуточки шутит гвардии капитан, хотя вперемежку с рассуждениями о "прекрасной москвичке" вскользь брошены знакомые слова - "оставить службу", "стать философом". Но все же было бы совершенно невозможно "договаривать за Сергея Ивановича", если б о тех днях сохранился только этот документ.