Понадобились основательные объяснения с видными идеологами славянофильства: Иван Аксаков давал письменные показания лично для императора - на них Николаем были сделаны собственноручные примечания и начертана высочайшая резолюция начальнику Третьего отделения графу Орлову: "Призови, прочти, вразуми и отпусти". Ещё одного славянофила, заподозренного в разжигании розни между прибалтийскими немцами и русскими, Юрия Фёдоровича Самарина, Николай велел продержать 12 дней в заключении (впрочем, весьма мягком, с вином, книгами, баней, питанием по желанию "откуда угодно"), потом призвал прямо в свой кабинет Зимнего дворца. Беседа, записанная Самариным сразу по возвращении, больше напоминала строгое родительское наставление. Николай указывал на вредные последствия самаринских "Писем из Риги", ходивших по рукам в виде "самиздата". Он говорил, что они "ведут к худшему, чем 14 декабря", так как стремятся "подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам… Верю, что вы намерения не имели, но вот к чему вы шли". "Вы хотели сказать, - пояснял Николай, - что со времени императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и потому сами немцы…" Угроза "отдать под суд", после которого "вы сами знаете, вы бы сгинули навсегда", постепенно сменилась отеческим: "Дело конченное, помиримся и обнимемся". Самарин только и был переведён из Петербурга в Москву, служить "на глазах родителей".
Любопытно, насколько часто в это время император исполняет роль строгого, но великодушного судьи. Вот ещё одно замечание Николая 10 июня 1848 года: "Залуцкий взят… Я предам его суду, а потом прощу". А самое знаменитое императорское "прощение" навсегда вошло в историю мировой литературы.
По доносу правительственных агентов в ночь на 23 апреля 1849 года начались аресты участников собраний в доме 28-летнего Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. Дознание показало, что арестованные обсуждали идеи утопического социализма и проблемы внутреннего положения России (крепостное право, судопроизводство, цензура), а в более узком кругу вели разговоры о революции, тайных обществах, "ненадобности религии", подумывали о руководстве крестьянским восстанием… Это был тот пугавший всех "заговор", которого ждали и всё не могли найти. Страхи высшего общества, вызванные "охранительной тревогой", были вымещены на петрашевцах. Следствие велось до осени, а 27 сентября 1849 года Николай наряду с обычным "здесь всё тихо и спокойно" сообщил Паскевичу: "На днях начинается суд над канальями открытого весной заговора". "Канальи" были представлены Николаю как "сборище молодых людей, которые, заразившись заграничным учением социализма и гражданского равенства, мечтали о распространении оных в России для произведения политического переворота".
Из 122 человек, проходивших по делу, 21 (в том числе Фёдор Михайлович Достоевский) был приговорён судом к расстрелу. Николай приговор изменил. 22 декабря 1849 года в Петербурге, на заполненном тысячами зрителей Семёновском плацу, когда первая тройка приговорённых (в том числе Петрашевский) будет облачена в саваны и привязана к столбам, когда в пятнадцати шагах от неё выстроятся солдаты и уже прозвучит команда "прицель!", вдруг (точнее "вдруг") барабаны ударят "отбой" и генерал-адъютант Сергей Павлович Сумароков объявит о высочайшим прощении. Смертная казнь будет заменена каторгой, ссылкой, определением в арестантские роты, в солдаты. Одного из приговорённых, Александра Ивановича Пальма, освободят прямо на плацу - его только переведут из гвардии в армейскую часть.
Благодаря воспоминаниям, письмам, страстному монологу князя Мышкина в романе "Идиот" мы знаем, какое потрясение пережили Достоевский и его товарищи ("десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти"). Мы знаем, что наследник Александр, удовлетворённый избавлением приговорённых от смертной казни, поехал вечером на оперу "Дон Жуан" и остался ею доволен. Что переживал в тот день Николай, мы не знаем.
В ту эпоху "отец-командир" Иван Фёдорович Паскевич оставался чуть ли не единственным действительно близким доверенным лицом Николая. Переписка с ним - неширокое окошко во внутренний мир императора. "Тяжёлое время, но унывать не стану", - признавался Николай "отцу-командиру" в начале весны 1849 года. Жаловался, что помимо внешнеполитических дел ("про Францию и говорить не стану - это хаос, вертеп извергов, готовых на всё") много хлопот доставляет внутренний бюджет ("Бюджет… крайне тяжёл"; "Не знаю, право, как вывернуться из сметы… Ужасно! Надо везде беречь копейку!").
Для того чтобы увериться, что Россия по-прежнему предана своему государю, Николай предпринял поездку всей царской семьи в Москву, на празднование Пасхи и освящение Большого Кремлёвского дворца. Толпы встречали царский поезд ещё на подъездах к Первопрестольной. А встреча царя и народа 27 марта 1849 года при высочайшем выходе к молебну в Успенском соборе впечатлила многих современников:
"Площадь кишит народом, не видать нигде пустого места и яблоку упасть негде, - Иван Великий по всем ярусам уставлен людьми, - все паперти, крыши заняты, - около стен везде подмостки и скамьи. Взоры устремлены на дворец, где с утра подняли императорский флаг, к крыльцу, откуда должен показаться царь. Большой Успенский колокол давно уже благовестит к торжественному молебну Скоро ли, скоро ли? <…> Съехались все государственные чины. Уже прибыл и митрополит. Всеобщее ожидание. Вдруг… Трезвон оглушающий, какая-то громовая, торжественная, наполняющая сердце веселием гармония: Царь показался на крыльце.
Вот он, вот он! Головы все открылись. Он поклонился народу; ур…ааа! Ур…ааа! Ур…ааа! Он сошёл с крыльца, - всех выше, всех виднее, - за ним его первый сын, наследник, родившийся в Москве, среди нас, его младшие сыновья… Ура! Ура! Ура! Народ со всех сторон бросается к нему навстречу, загораживает дорогу; ему пройти, кажется, нельзя, но он проходит свободно, и лишь только куда оборотится, везде перед ним сама собой раздвигается улица…"
Автора этой живой картины Михаила Петровича Погодина потрясла реакция группы владимирских плотников, стоя рядом с которыми он наблюдал за царским выходом:
"- Ребята, я остановлю его, - сказал один детина дюжий, в сажень косую в плечах.
- Что ты, - закричали на него прочие, ухватясь за полы.
- Еже ей-ей остановлю, - говорит он, порываясь вперёд.
- Полно, полно, зачем?
- Скажу: дай насмотреться".
Николай получил заряд бодрости и оптимизма. Паскевичу в Варшаву полетело письмо: "Здесь нашёл я всё в отличном духе и порядке, так что сердцу отрада, и набираю этим зрелищем новые силы на мою тяжкую юдоль!"
Павел Васильевич Анненков, вернувшийся в Россию из бушующего Парижа, был поражён внутренним спокойствием страны: "Наша тишина была неподдельная, испытанная. Начиная с богатейшего земельного собственника и через весь ряд именитого и заурядного чиновничества до последнего торгаша на улице, все в один голос гордились и радовались тому, что политические бури и ураганы никогда не досягают и никогда не достигнут, по всем вероятностям, наших пределов".
К концу лета 1849 года революции в Европе пошли на убыль (хотя не пошла на убыль неприязнь к осуждавшей их России). Паскевич спас Австрию, усмирив венгерский мятеж. Николай ждал его с победой в Варшаве.
И там, в Варшаве, прямо на военном смотре 12 августа великий князь Михаил Павлович был поражён апоплексическим ударом. Он потерял способность говорить, не мог двигать ногой и рукой. 16 дней и ночей провёл Николай у постели умирающего младшего брата. У императора страшно болела голова, её беспрестанно смачивали то уксусом, то одеколоном. "Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своём, тщетно старался отнять". Наконец всё было кончено. Николай сказал окружающим:
- Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и говорил её, и ещё такого, которому одному я мог говорить правду.
После похорон Паскевичу ушло письмо с признанием: "Утром отдали мы последний долг дорогому брату, и вместе с ним исчезли в могилу 50-летняя дружба, все младенческие и детские и юношеские воспоминания, с ним, моим спутником и товарищем в сей жизни! Что мне говорить тебе про мои чувства; молю Бога, чтобы сподобил и мне кончить так, как он, на службе; посвятясь ей с юных лет… Но больно из 4-х остаться одному мне".
В доверительной беседе наследник Александр говорил: "Что всего ужаснее, это idee fixe, преследующая теперь государя, именно, что этой смертью нарушен закон природы, т. е. Михаил Павлович обошёл его в очереди, и, следовательно, и ему уже недолго остаётся жить".
"Умри Николай в 1850-м году, - написал позже Николай Иванович Греч, - он не дожил бы до пагубной войны с французами и англичанами, которая прекратила жизнь его и набросила на его царствование мрачную тень". Правда, знаменитый журналист думал, что тень эта затмила только взоры современников, что "при свете беспристрастной истории она исчезнет, и Николай станет в ряду самых знаменитых и доблестных царей в истории".
За что ценили бы императора Николая, если бы он ушел в 1850 году? Ответ можно увидеть в рассуждениях графини Антонины Дмитриевны Блудовой (дочери одного из лучших николаевских министров), написанных как раз тогда, накануне 25-летия царствования Николая:
"Когда же вспомним о всём, что сделано или начато в его царствование, как не отдать справедливость пользе, принесённой им земле Русской в эту четверть века? При нём ни одна война не начата для завоеваний. Однако Греция восстановлена, Сербия поддержана, Молдавия и Валахия устроены, то есть потрясена до основания Турецкая империя. При нём законы наши приведены в ясность, истолкованы, исправлены. При нём и под его покровительством сколько полезных учёных изысканий в России. В деятельности, может быть, слишком большой, но, конечно, не в ленивой небрежности, можно его винить. Сколько новых учебных заведений, сколько стараний способствовать к благосостоянию и просвещению низшего класса народа! Внутренние сношения наши сколько облегчены! Шоссе начаты или назначены по всем краям России; железные дороги им начаты против мнений всех министров, флот им поднят, судоходство им поощряемо. Церковь православная особенно обратила на себя его заботу, как наиважнейшее, священнейшее сокровище России… И если б исполняли его намерения точно и верно, какие богатые были б плоды!"
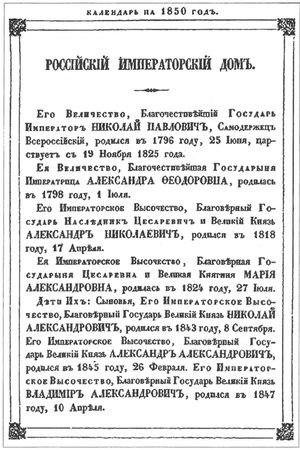
Рубеж 1840-1850-х годов - время подведения итогов, время золотых и серебряных юбилеев. Время торжественных речей и адресов, наград и титулов и одновременно - пора очевидного старения государственной элиты. А река времён ускоряет бег, и уже слышен шум ближайших порогов и водопадов… На полувековом юбилее государственной службы Дмитрия Николаевича Блудова 8 января 1851 года Пётр Андреевич Вяземский выступил со стихами:
Наш бойкий век парит и парит,
Парами топит он и жжёт.
Он жизнь торопит, время старит
И всё кричит: вперёд, вперёд!
Что день, то новое начало,
Что день - с вчерашним днём разрыв,
И что всех утром волновало,
То вечером сдано в архив.
Рядом с юбилеем Блудова - полувековой юбилей государственной службы министра финансов Фёдора Павловича Вронченко, полувековой юбилей службы недавно отставленного Сергея Семёновича Уварова, полувековой юбилей службы фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича, полувековой юбилей литературной деятельности Василия Андреевича Жуковского. 25-летие назначения императрицы шефом Кавалергардского полка…
Один из важнейших юбилеев - 22 августа 1851 года - "серебряная свадьба Государя с Россией" ("обручение их было 14 декабря", по словам А.Д. Блудовой). Император отмечал 25-летие своей коронации в Москве. Снова гудели колокола.
"Кремль затоплен был народом, на площади свершался парад войскам, мундиры горели; крики, музыка, барабаны смешались, и началась… суета всех служащих и неслужащих, актёров и зрителей".
Очевидцы торжеств утверждали, будто самодержец был "омрачён, недоволен". Павел Васильевич Анненков "видел императора мрачным и усталым". Толкования настроения императора были самые разные: якобы он ждал более торжественного приёма и поднесения титулов за 25-летнее царствование ( С.М. Соловьёв), просто был утомлён затянувшейся поездкой по наконец-то построенной железной дороге ( П.В. Анненков). "Всегда как будто удручён / Заботой о своём народе" ( А.Н. Майков).
Ближе знавший императора Модест Андреевич Корф отметил: царь заранее объявил, что едет в Москву не веселиться, а молиться и благодарить Бога, поэтому и не было ни раздачи наград, ни особых празднеств ("всего" два бала: по традиции у "последнего московского вельможи" князя Сергея Михайловича Голицына и по чину у военного генерал-губернатора графа Арсения Андреевича Закревского). Антонина Дмитриевна Блудова передаёт картину, увиденную совсем близко: государь, не хотевший принимать в тот день никаких поздравлений, тем не менее просмотрел парадные отчёты о 25-летних трудах и успехах своих министерств и даже был "невольно тронут" итогами трудов к пользе, чести и славе России.
"Видя его умиление, дочь его подошла тихонько к нему и из-за спины обняла его шею рукою.
- Ты счастлив теперь, - спросила она, - ты доволен собою?
- Собою? - отвечал он и, показав рукой на небо, прибавил: - Я - былинка!"
Иногда император выражался ещё определённее: он говорил, что солдату после 25-летней службы полагается отставка, что и ему бы уже пора… Держали только сила воли и вера: "До того буду тянуть лямку, сколько моих сил и способностей станет, не унывая, но уповая на милосердие Божие, доколь Ему угодно будет, чтобы я продолжал".
Корф отмечал постоянную, какую-то особенную "мрачность" императора осенью 1851 года. В делах это проявилось в дальнейшем укреплении "карантина" - Николай гораздо строже и разборчивее относился к выдаче разрешений на поездки за границу. Цены на заграничный паспорт выросли до 250 рублей (для отправляющихся на лечение - 100 рублей). Страдали и стар и млад: почтенному богатому курляндцу, просившемуся на воды по нездоровью, император объявил, что он вместо чужих краёв может ехать к отечественным водам. Сын князя Долгорукова просился в отпуск на год для поправления здоровья, как он писал, "совершенно разрушенного". Николай ответил резолюцией: "Уволить от службы".
Правда, "большой свет", то ли жаждая запретного плода, то ли демонстрируя свою влиятельность при дворе, большею частью выехал на зиму 1851/52 года из Петербурга в Париж. В результате в российской столице не было традиционных больших сборищ и празднеств. "Посреди политического шума, борьбы партий и ожидавшихся беспокойств граф Воронцов-Дашков, графиня Разумовская, князь Радзивилл, Рибопьер и другие учредили свои приёмные дни в запрещённом Париже, как бы у себя дома, в нашем мирном Петербурге". Там посланцы Петербурга стали свидетелями очередного государственного переворота: его совершил племянник великого Наполеона, Наполеон Малый (lepetit) - так его тогда называли при русском дворе.
Николай не воспринимал такого "Наполеона" всерьёз. Когда в декабре 1852 года Луи Наполеон был провозглашён императором французов под именем Наполеона III, царь от души смеялся над стихотворением своего любимого комика Каратыгина "Послание к галлам по случаю восшествия на трон Наполеона III", даже просил сделать несколько копий для раздачи родне:
Теперь вы новому властителю так рады…
Вы головы пред ним решились преклонить.
Зачем же строили вы ваши баррикады?
Зачем же огород вам было городить?