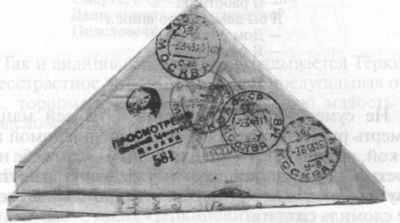"…Пока что, - делится он с Марией Илларионовной в тяжелейшие дни, 12 октября 1941-го, - я должен находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключенной в нем доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боев и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!"
Еще в написанной по следам финской войны и напечатанной во время короткой передышки между войнами (6 ноября 1940 года) "тёркинской" главе "Гармонь" картина веселой пляски сопровождалась примечательной оговоркой:
И забыто - не забыто,
Да не время вспоминать.
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
Перед поэтом вставала, казалось бы, неразрешимая дилемма: возможно ли сочетать "ободряющее слово" и "добрую шутку" с таким честным изображением войны, которое в основном и главном совпадало бы с ее восприятием самими воюющими людьми, столько уже испытавшими и перенесшими, и что сделало бы из него не мимолетного визитера, а постоянного собеседника и друга?
Между тем писать "по-гвоздевски" или в духе казенного оптимизма под "незабываемыми взглядами этих людей" становилось, как признавался Твардовский, невмоготу.
В связи с этим возникают конфликты в редакции. "Чтоб иметь успех и прочее, - поясняет Александр Трифонович жене, - нужно писать так, как я уже органически не могу писать". Несмотря на все возникшие неприятности, он принял дерзкое решение: "…больше плохих стихов писать не буду, - делайте со мной что хотите… Война всерьез, поэзия должна быть всерьез".
Весной сорок второго года, откомандированный из газеты "Красная Армия" и не знавший, к добру это или к худу, Твардовский приехал в Москву и здесь вернулся к оставленному "Тёркину". Подо всеми ходившими над головой тучами (присланная из редакции характеристика скорее напоминала донос и вызвала необходимость в тягостных объяснениях со столичным начальством) поэт целиком погрузился в эти тетради. "Я желаю одного, - говорится в письме жене, - месяца, двух недель, недели сосредоточенной работы, а там хоть на Сахалин".
Уже появляются строки, очень похожие на те, что откроют будущую книгу, - о том, что на войне как без пищи не прожить, так и без прибаутки. Однако в этих ранних набросках еще нет "ключевых" слов, ставших знаменитыми, поистине "программными" не только для рождающейся "Книги про бойца", но и для всего дальнейшего творчества ее автора, слов, выразивших цель, задачу, мечту поэта (тут каждое слово к месту):
А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька
Слово было найдено, произнесено. И пошло! Черновые наброски быстро преобразились в такие основополагающие главы, как "На привале", "Переправа", а также некоторые другие, пополнившись совсем новой главой, вобравшей драматические впечатления минувшего лета, - "Перед боем".
"Когда я отделывал "Переправу", - писал поэт жене 27 июня 1942 года, - еще не знал, что впрягаюсь в поэму, и потом все сильнее втягивался, и вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить".
Мощный и грозный зачин "Переправы":
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа, -
и вся страшная картина гибели "наших стриженых ребят" настраивали на мужественное осознание всей трудности борьбы с лютым врагом, неизбежности напряженных ратных усилий и горчайших потерь.
А картины прошлогоднего отступления перекликались с драмой нового отхода наших войск "во глубину России", и строки: "То была печаль большая, как брели мы на восток", отзывались в читателях свежей, острой болью.
Случилось так, что первые главы поэмы появились в печати в сентябре, в труднейший, трагичнейший час войны, когда враг рвался к Волге, вскоре после известного сталинского приказа от 28 июля 1942 года № 227. Это, может быть, облегчило путь книги к читателю, поскольку драматизм ситуации побудил и самого автора приказа к необычно горькой правде, весьма жесткой характеристике поистине отчаянного положения, сложившегося на фронте от Сталинграда до кавказских гор: "Отступать дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. <…> Ни шагу назад!"
Но какая же огромная разница была между зачитывавшимся в воинских частях приказом и тем, что говорилось в "Книге про бойца" (и для бойца!).
Конечно, приказ был продиктован суровой военной необходимостью, однако вместе с тем нес черты, вообще присущие его автору и созданной им системе.
На истекавшую кровью армию обрушивались обвинения в "позорном поведении" ("Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором") и даже в "преступлениях перед Родиной". И эти обличительные ноты возникли в некоторых стихах той поры, например, у Константина Симонова:
Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой…
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
("Безыменное поле". Курсив мой. - А. Т-в)
"Тёркин" же был разговором с солдатами по душам, задуманным автором задолго до грозных событий лета сорок второго, но удивительно пришедшимся к месту в эти тяжелейшие дни.
Поэт не осуждал, а воистину восславлял простого бойца, подлинного героя и вместе с тем великого мученика этой войны, который с лихвой расплачивался не только за собственные промахи, неопытность, неумелость, но и за все просчеты, ошибки, даже преступления, совершенные самим Верховным и накануне войны, и в ее ходе.
Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Такого солдаты о себе еще не читывали! Это был на редкость реалистический портрет многомиллионного "адресата" сталинского приказа:
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!
Герой книги - сам из тех, кто "дорогою постылой" отступления прошел "в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной".
Вышло так, что, нимало не задаваясь этой целью (тем более что начал писать "Тёркина" до приказа), поэт, в сущности, вступал в полемику с ним. Много позже, уже на пороге победы, Твардовский вновь припомнит злоключения рядового бойца в первые годы войны:
Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берег,
Повторял: "Вперед, на запад",
Продвигаясь на восток.Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.И по странности, бывало,
Одному ему почет,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счет.Срок иной, иные даты.
Разделен издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.
Вряд ли можно предполагать тут сознательный намек на давний приказ, но, даже помимо авторской воли, стрела этой горькой и гневной иронии угодила куда выше, чем непосредственно метил поэт.
К сожалению, "Василий Тёркин" долго казался части читателей, критиков да и коллег автора просто веселой и даже незатейливой историей бывалого и удачливого солдата.
Искренняя и страстная почитательница Анны Ахматовой, Лидия Чуковская горестно засвидетельствовала ее сказанные с "неприятной, презрительностью" слова: ""Тёркин"?! Ну, да, во время войны всегда нужны легкие солдатские стишки". Другую великую поэму, "Дом у дороги", она, по убеждению Лидии Корнеевны, вовсе не читала (как, думается, и большинство глав "Книги про бойца"!). В полном согласии с Ахматовой и будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский тоже говорил о "плясовой" "Тёркина". Что это за "легкие стишки" и "плясовая", мы уже частично видели и еще множество раз ощутим.
Да и для некоторых других литераторов и простодушных читателей новый Тёркин - чуть ли не двойник своего предшественника - Васи, лубочного персонажа, в создании которого Твардовский в финскую войну принял весьма малое участие.
Потом, как это в подобных случаях уже бывало в литературе, поэт решительно "присвоил" его и претворил совсем в другую фигуру, несравненную по глубине проникновения в судьбу и характер героя.
Вася Тёркин был "богатырь, сажень в плечах", расправлявшийся с противником запросто ("врагов на штык берет, как снопы на вилы").
Василий же - "парень сам собой… обыкновенный… Не высок, не то чтоб мал". Никаких умопомрачительных подвигов не совершает.
Однако, утратив богатырские стати, новый герой "не прогадал": душа у него богатырская, щедрая уже не только на удалую выходку и лихое словцо, но чем дальше, тем больше проникновенно отзывающаяся на все происходящее вокруг, или, говоря словами поэта, на "всю огромность грозных и печальных событий войны".
В послевоенной статье Твардовского "Как был написан "Василий Тёркин"" (1951) сказано: "Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия первоначального плана… слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма - ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета - пусть себе нет, не надо; нет самого начала веши - некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования - пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы, - мне стало весело и свободно".
Свобода - второе после правды "ключевое" слово, определившее звучание книги и ее успех у самых разных читателей.
Впоследствии Твардовский вернется к этим размышлениям:
"Каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения".
Не менее важно, что этой, так сказать, профессиональной свободе предшествовала и обусловливала ее свобода самого взгляда на жизнь (вспомним: "О том, что знаю лучше всех на свете, /Сказать хочу. И так, как я хочу!"), страстный, самозабвенный порыв к художественному воплощению правды о войне, обо всем, что она принесла с собой, что открыла, о чем заставила задуматься.
И как знаменательно, что в самом, быть может, драгоценном для поэта отзыве на эту книгу, дошедшем до него уже после войны из парижской эмиграции, - письме одного из любимейших авторов Александра Трифоновича и чрезвычайно взыскательного судьи - звучат те же "мотивы"!
"…Я только что прочитал книгу А. Твардовского ("Василия Тёркина"), - говорится в письме Ивана Алексеевича Бунина старому другу Николаю Дмитриевичу Телешову, - и не могу удержаться - прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, - это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова".
Вернемся еще раз к рассказу поэта о том, как он "пускался в путь": "не поэма - ну и пусть… нет единого сюжета - пусть…" и т. д. - вплоть до "там видно будет, разберемся". Не напоминает это вам знакомое - пушкинское?
И даль свободного романа
Еще неясно различал.
Не то же ли испытал Твардовский счастливое ощущение - открывающейся впереди дали (слово, которое так же, как "переправа", или ее "муравский" предок - "перевоз", как "память", станет потом вечным спутником его поэзии) и свободы?
Свободы небывалой, подчас трагической, сталкивающей с чем-то неведомым, неожиданным, даже озадачивающим самого поэта?
Помните, какую "штуку удрала" с Пушкиным Татьяна своим, не предусмотренным автором, поступком - выскочила замуж?
Вот и Тёркин, хотя Твардовский и предчувствовал еще в самом начале работы, что "этот парень пойдет все сложней и сложней", вдруг оборачивался такими новыми сторонами, которые и не предугадать было.
"Я порой стою, как над пропастью, - страшно и сладко думать, что еще удастся в ней ("Книге про бойца". - А. Т-в) повысказать", - признавался поэт жене.
Василий Тёркин - подлинный, поразительно верно нарисованный русский национальный, народный характер.

Василий Тёркин. Рисунок художника А. Каневского
Есть такая точка зрения, будто наиболее верное свидетельство народности героя - это простота, если не простоватость его натуры. Между тем, как напомнил один из исследователей творчества Твардовского, П. Выходцев, Щедрин считал необходимым для художника, изображающего людей из народа (причем речь шла еще о крепостном или только что освобожденном крестьянстве), "разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают".
И, даже знать не зная щедринского выражения, самые разные читатели "Книги про бойца" были привлечены и покорены этим постоянно и разнообразно проявляющимся свойством тёркинской натуры.
Начать с того, что герою в высшей степени присуща именно такая любовь к родине, о которой с восхищением писал Толстой, - "…чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого" (в другом случае Лев Николаевич скажет о "скрытой теплоте патриотизма"), Тёркин, которому не надо лезть в карман за острым словцом, не больно горазд на лирические признания или "гражданские" декларации. Громкое слово, "героическая" поза ему так же не пристали, как одежда с чужого плеча. И читатели, в особенности солдаты, это чувствуют.
Когда при вести о мнимой гибели Тёркина кто-то передает приписываемые герою предсмертные слова, эта трафаретно-патетическая фраза звучит так неправдоподобно и фальшиво, что сам рассказчик мнется:
- Говорил насчет победы,
Мол, вперед. Примерно так…
И недоверчиво выслушав эту версию, все зато с полным ощущением истинности принимают другую:
- Жаль, - сказал, - что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?
Читательское, солдатское сердце чутко: если Тёркин умер - то точно так же, как жил, просто, быть может даже - с прибауткой, но уж без всякой "картинности".
Ведь они и сами такие! Девушка, запечатленная Твардовским в очерке "Костя", ответила на вопрос о причине ее патриотического поступка чисто по-тёркински:
"- Первое время я была санитаркой, а потом… запросилась в спецшколу - захотела к партизанам. А то на фронте - и убьют, не увидишь, кто в тебя стрелял…
И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых, высших мотивах ее желания попасть к партизанам и свести все к причуде".
На чрезвычайно жестокой войне и герой, и читатель, да и сам автор - ровня друг другу, почти родня:
Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку, колышет,
Каждый день и час грозя.
Кто доскажет, кто дослышит -
Угадать вперед нельзя.
Этим, в частности, определялась такая особенность "Книги про бойца", как стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы: как пояснял автор, воюющий читатель "мог и не дождаться… следующей…".
Тёркинскому поведению в этих грозных обстоятельствах свойственна поистине "неслыханная простота" (если воспользоваться словами другого поэта), совершенное отсутствие какой-либо мысли о производимом впечатлении или о том, что совершенное тобой может остаться никому не известным:
Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел.
Хорошо б. А нет - ну что ж…
Эта драматическая обстановка может внезапно разрядиться озорной, довольно забористой сценкой.
Вот среди наступающих упал снаряд, все - и Тёркин тоже - ничком в снег. Смерть буквально - в двух шагах, жизнь - на волоске. А снаряд все не рвется, томит душу, и эта оторопь страшит, парализует.
И вдруг:
Тёркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
- Хватит, хлопцы, землю нюхать.
Не годится, - говорит.Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду.
Справил малую нужду…
Вряд ли этот дерзкий вызов смерти мог быть занесен на чопорные скрижали истории, но его столь "несолидное" величие и озорное обаяние - совершенно в духе солдатских соленых баек, устных народных преданий, от которых веет силой и жизнерадостностью.
А на другом "полюсе" повествования, в самой "дали свободного романа" возникает высочайшего драматического накала поединок Тёркина со Смертью, в котором этот, недавно выглядевший этаким "сорвиголовой", герой подымается во весь свой подлинный рост.
Короткими, как бы через силу произносимыми фразами (словно последними оставшимися пулями) отбивается тяжело раненный воин от Смерти, отталкивая ее слабеющей рукой, вырываясь из тягучих словесных тенет, которые плетет страшный вкрадчивый голос, сливающийся с воем вьюги, уже, кажется, заживо погребающей героя:
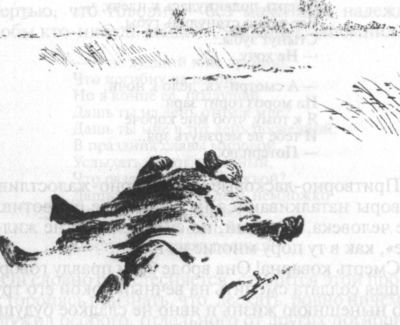
Иллюстрация к главе "Смерть и Воин" из "Книги про бойца". Рисунок художника О. Верейского