– Каковы планы по расширению парка?
– Прежде всего будем заменять старые модификации Boeing 747 на новые. Мы прикидывали, что к 2015 году наш флот на регулярных перевозках будет состоять из восьми-десяти этих машин плюс некоторое количество Ту-204. Этой осенью мы ожидаем новый Boeing 747-400F. Эта модификация отличается существенно большей дальностью полета, она позволит обеспечить доставку грузов без промежуточных посадок из США до Красно ярска и далее в Китай, равно как и в обратном направлении. К этому событию будет приурочено и открытие грузового терминала в красноярском аэропорту.
– Закупка Ту-204 – дань патриотизму?
– Нет, это эффективный грузовик. Во время авиасалона в Ле-Бурже мы выезжали в Воронеж, где подписали контракт на два Ту-204. Это важная составляющая всей системы грузовых регулярных перевозок, потому что размерность Ту-204 – 25–30 тонн – оптимальна для так называемых фидерных перевозок на относительно коротких маршрутах через грузовой хаб. Мы рассчитываем начать операции на Ту-204 сразу, как только они появятся у нас в распоряжении.
– Планы по развитию регулярных грузоперевозок су щест вуют и у других отечественных авиакомпаний. Например, у "Атлант-Союза" есть аналогичный проект, для которого уже приобретен грузовой Ил-96. Насколько будет остра конкуренция в этом сегменте в ближайшее время?
– В нашем бизнесе содержание продукции и услуг во многом определяется типом самолета и его возможностями. И если сравнивать возможности, которыми обладают наши самолеты и те, которые эксплуатирует "Атлант-Союз", конкуренция исключена. Boeing 747 имеет существенно большую дальность и на длинных маршрутах более эффективен, чем Ил-96. Обратное тоже верно. Кроме того, по тем направлениям, где "Атлант-Союз" планирует использовать свои Ил-96, мы будем лишь взаимно дополнять друг друга. Мы уже имели предварительные контакты с "Атлант-Союзом" для взаимодействия и сотрудничества, чтобы увязать между собой маршрутные сети. У нас есть договоренно сти, что на Ил-96 будет доставляться груз до Красноярска и Москвы, а на международных маршрутах будут работать наши Boeing 747.
– В 2007 году начал активно развиваться "Аэрофлот-карго". Сможет "Волга-Днепр" конкурировать с госкомпанией, обладающей особым положением на рынке?
– "Аэрофлот" был первой российской авиакомпанией, которая начала регулярные грузовые перевозки с использованием иностранных самолетов DC-10, задолго до того, как "Волга-Днепр" запустила AirBridgeCargo. Поэтому во многом мы изучали и использовали опыт "Аэрофлота". Затем нашими компаниями были приняты сходные организационные решения: мы выделили бизнес регулярных грузовых перевозок в отдельную компанию, примерно в одно время получали лицензии. Есть элементы конкуренции как раз на маршрутах из Китая в Европу, но мы находимся в диалоге и надеемся, что будем минимально конкурировать и больше взаимодействовать.
– Среди иностранцев партнеров не ищете?
– Сейчас успешно работают международные альянсы в пассажирских перевозках. В грузовом бизнесе прецедентов нет, но это очень здравая и экономически оправданная система. Мы ведем переговоры с рядом компаний, одна из которых японская Nippon Cargo Airlines. Нас объединяют почти одинаковые версии Boeing 747 и идеальное соответствие маршрутных сетей, которые прекрасно дополняют друг друга. Есть еще ряд моментов, которые нам позволяют рассчитывать на успех в этом партнерстве. По поводу будущего грузового альянса говорить не возьмусь, но будем к этому стремиться.
– Есть планы по покупке профильных активов?
– На протяжении 17 лет мы никого не поглощали. Мне кажется, что нам лучше удаются варианты партнерства с сохранением идентичности участников. В качестве примера могу привести второй год работающее партнерство с АНТК имени Антонова.
Несмотря на то что 15-летняя история наших взаимоотношений была очень непростой, мы достигли понимания, что вместе выигрываем больше, чем конкурируя, и начали успешно работать. Думаю, что в обозримом будущем мы вряд ли пересмотрим свои взгляды на развитие. Мы опираемся на свои силы и равноправное партнерство без слияний и поглощений.
– Когда AirBridgeCargo заработает в полную силу?
– Можно считать, что мы уже вышли на проектную мощность, но проект не демонстрирует показателей прибыльности, которые были предусмотрены в бизнес-плане. Это, естественно, беспокоит. Поэтому сейчас мы анализируем итоги стартового этапа, вносим существенные коррективы и определяем новый рубеж развития проекта – выход на прибыльный режим. Здесь следует иметь в виду, что мы вынуждены оперативно реагировать на изменения рынка, колебания которого очень существенны. Например, в 2007 году провалился китай ский рынок, который является базовым для мирового. И все грузовые авиаперевозчики внесли коррективы в свои планы, в том числе мы.
– Насколько планы развития компании зависят от ее промышленных проектов, прежде всего от возобновления серийного выпуска Ан-124, которые обеспечивают ключевую часть бизнеса "Волга-Днепра"?
– Эти проекты не связаны друг с другом. Если по регулярным перевозкам в мировой табели о рангах мы, по сути, новички, то в перевозках на рамповых самолетах являемся признанными лидерами. Ан-124 нужен нам, чтобы сохранить завоеванное в 1990-х годах мировое лидерство в сегменте негабаритных перевозок. Мы вплотную подходим к вопросу о конкурентоспособности всей российской гражданской авиации на мировой арене – я надеюсь, все это хорошо понимают. Если у нас нет своего живого авиапроизвод ства, то наши возможности ограничены срока ми эксплуатации са молетов: пройдет 10–15 лет, и мы будем лишь вспоминать, что когда-то на рынке была успешная компания "Волга-Днепр". Этого не хотелось бы.
– Почему же Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) так и не приняла решения о производстве Ан-124?
– По нашей инициативе создана российско-украинская проектная группа, в рамках которой мы подготовили бизнес-план проекта. Этот план вместе с заявкой на 12 Ан-124 мы направили в ОАК, Минэкономразвития и Минпромэнерго. Осенью ОАК намерена его рассмотреть, и я надеюсь, что наши предложения будут изучены объективно. Если будут замечания и рекомендации, мы готовы над ними работать. Сейчас предмет дискуссии и сомнений наших поставщиков – это объемы заказа. По нашим расчетам, окупаемость в проекте наступает на производстве 30-го самолета. Мы уверены, что рынок разовьется настолько, что портфель заказов превысит эти 30 самолетов, но пока нужного количества заявок нет.
– Какова стоимость проекта?
– Серия из 80 самолетов предварительно оценивалась в $6 млрд. Из них около $500 млн – стартовые расходы для подготовки серийного производства. У нас нет задачи построить антикварную копию советского "Руслана", самолет будет, как мы говорим, заплаточным – пройдет серьезная модернизация, но она будет компромиссной. Поэтому мы просчитываем и сценарий, который можно было бы назвать "С чистого листа", – цифровое проектирование самолета, его производства и поддержки. Он предусматривает не слепое копирование модели, разработанной 30 лет назад, а воспроизводство успешной конструкции в современных технологиях и системах управления. По предварительным оценкам, это приведет к удорожанию проекта всего на 20–30 %. Такой же подход будем предлагать и по Ил-76. Это позволит нашей промышленности в этом сегменте перейти на современные технологии.
– Запуск в серию Ил-76 тоже идет трудно?
– Нет, здесь все вполне оптимистично. В 2007 году мы достраиваем второй модернизированный самолет с двигателями ПС90. На МАКСе завершили переговоры на поставку еще трех самолетов с Ташкентского авиазавода. Сформируем минимальный флот, который позволит сохранить на мировом рынке нишу перевозок в 40–60 тонн за "Волга-Днепром". В целом в последние годы спрос на Ил-76 растет очень активно, рынок изголодался по этим машинам после запрета на полеты старой модификации в ряде стран. Как только мы представим новую версию самолета, спрос будет ажиотажный.
– Какие инструменты будет использовать "Волга-Днепр" для финансирования своих проектов и закупок самолетов?
– Все те же, которые используем. Основным источником является кредитное финансирование. Мы активно работаем как с отечественными банками, прежде всего со Сбербанком, так и с иностранными финансовыми структурами, например с Raiffeisen. Учитывая бурное развитие авиационного финансирования со стороны ВТБ и Внешэкономбанка, мы рассчитываем, что у нас сложится сотрудничество и с ними. Безусловно, кроме заемных средств мы думаем и о других формах привлечения капитала.
– Вы говорите об IPO или о частном размещении?
– Я смогу вам ответить, когда у нас окончательно сформируется позиция на этот счет.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Алексей Иванович Исайкин.
Родился 9 сентября 1952 года. В 1977 году окончил Иркутский институт народного хозяйства и получил квалификацию "экономист по промышленности". Трудовую деятельность начал на авиазаводе в Улан-Удэ в должности инженера. До 1990 года служил в военно-воздушных силах, работал в представительстве заказчика в Ульяновском авиационно-промышленном комплексе, выпускавшем военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан". В 1990 году в звании подполковника завершил военную карьеру и встал во главе АО "Волга-Днепр" – первой в России негосударственной грузовой авиакомпании. Она эксплуатировала "Русланы". В 1990–1992 годах – председатель правления, в 1992–1996-м – президент, в 1996–2002 годах – гендиректор ЗАО "Авиакомпания "Волга-Днепр"". С 2002 года – президент группы компаний "Волга-Днепр".
COMPANY PROFILE
Группа компаний "Волга-Днепр".
Основана в Ульяновске в 1990 году. В группу входит более десятка компаний, среди которых авиакомпания "Волга-Днепр", оператор регулярных международных авиаперевозок AirBridgeCargo, представительства в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, США, Китае, станция техобслуживания в ОАЭ, учебный центр по подготовке авиационных специалистов, страховая компания НИК, а также лизинговая компания "Волга-Днепр-Лизинг". Объем продаж группы в 2006 году составил $725 млн, перевезено 155 тыс. тонн грузов. Парк самолетов авиакомпании состоит из крупнотоннажных Ан-124-100, Ил-76, Boeing 747. Она занимает первое место по объему грузовых перевозок в России и контролирует долю в 52,4 % мирового рынка негабаритных крупнотоннажных авиаперевозок.
ХРОНИКА
26 октября 2006 года группа компаний "Волга-Днепр" подвела промежуточные итоги работы за 9 месяцев, согласно которым компания впервые обошла "Аэрофлот" и стала лидером рынка авиационных грузоперевозок в России.
23 ноября "Волга-Днепр" и ОАО "Мотор-Сич" (Украина) заключили соглашение о партнерстве в реализации проекта возобновления серийного производства транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП".
В феврале 2007 года "Волга-Днепр" представила в Объединенную авиастроительную корпорацию заявку на покупку отечественных самолетов: 58 машин до 2015 года, в том числе Ан-124, Ил-76, Ту-204.
12 марта "Волга-Днепр" и корпорация Boeing подписали контракт на поставку пяти дальнемагистральных грузовых самолетов Boeing 747-8 Freighter, а также резервное использование самолетов Ан-124-100 из парка российской компании в логистике производства самолетов Boeing 787.
24 марта на внеочередном собрании акционеров авиакомпании принято решение о ее преобразовании из ЗАО в ООО.
11 апреля "Волга-Днепр" подвел итоги деятельности за 2006 год: объем продаж вырос на 55 % до $725 млн, тоннаж перевезенных грузов превысил 155 тыс. тонн. В августе менеджменту компании удалось выкупить долю миноритарных владельцев. Сумма сделки не раскрывалась. Таким образом был разрешен двухлетний акционерный конфликт в компании.
23–24 августа на авиасалоне МАКС-2007 "Волга-Днепр" подписал с украинскими "Мотор Сич" и АНТК имени Антонова соглашение о возобновлении производства Ан-124-100, а с МАК "Ильюшин" – твердый заказ на три Ил-76ТД-90ВД.
Алексей Екимовский
Коммерсантъ № 166 (3742) от 13.09.2007
12. Йоханн Йонах: на таком рынке надо или расти, или умирать
Хотя сделка по приобретению Райффайзенбанком Импэксбанка была закрыта еще в сентябре 2006 года, процедура слияния банков не завершилась до сих пор: юридическое объединение было перенесено с марта на конец года. О причинах затянувшегося присоединения и особенностях иностранного банкинга в России рассказывает председатель правления Райффайзенбанка Йоханн Йонах.
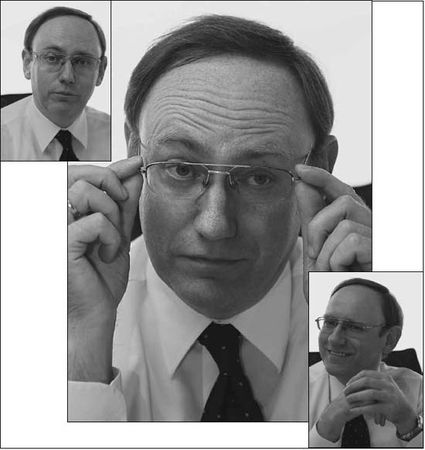
– Самостоятельно проработав в России довольно успешно десять с лишним лет, Райффайзенбанк решился на радикальное изменение стратегии развития, изначально пред усматривавшей самостоятельную экспансию. Почему?
– Мы почувствовали, что рынок развивается слишком быстро и сохранить долю на нем, не говоря уже о расширении, можно только за счет ускоренного развития региональной сети. Приобретение существующих банков позволяет быстрее достичь этой цели. Когда мы только вышли на российский рынок в 1996 году, он не был таким большим и конкурентным. К тому же у нас было преимущество: мы одни из первых запустили здесь потребительское кредитование, и поначалу нам было просто удерживать позиции в пятерке лидеров. Однако со временем все большие российские игроки стали переориентироваться на розничный бизнес и потихоньку использовать потенциал своих региональных сетей. Естественно, конкурировать со своими 27 отделениями на тот момент с банками, располагающими в десять раз большими сетями, мы не могли.
– Насколько я понимаю, переломным для вас стал 2005 год. Если на его начало Райффайзенбанк входил в пятерку лидеров розничного кредитования на российском рынке, то на начало 2006-го уже нет. Как изменило ситуацию приобретение Импэкс банка?
– По итогам первого квартала 2007 года совместно с Импэксбанком мы находимся на пятом месте по объему кредитов физическим лицам, на четвертом – по депозитам физических лиц и на шестом по активам. На мой взгляд, это очень достойные показатели, особенно с учетом того, что даже после приобретения Импэксбанка по числу отделений (порядка 250) мы далеко не на пятом месте.
– Почему тогда, наблюдая в 2005 году повышенную активность конкурентов, вы не купили банк раньше?
– Мы не сами выбирали момент покупки: согласие владельцев Импэксбанка на продажу мы получили лишь в начале 2006 года. Помимо Райффайзенбанка "Импэкс" вел переговоры с другими потенциальными приобретателями. Именно они и определили по большому счету ценовой диапазон сделки.
– Многие считают, что Райффайзенбанк переплатил за "Им пэкс". На момент покупки сумма сделки в $550 млн была максимальной ценой, которую иностранный банк уплатил за выход на российский рынок.
– $550 млн – это цена, которая устроила и покупателей, и продавцов. Конечно, на тот момент цена могла показаться кому-то завышенной. Однако, согласитесь, сейчас ситуация выглядит иначе, особенно при учете сделок, прошедших после нашей, когда другие покупатели решили, что можно платить еще больше. На таком рынке надо или расти, или умереть. В конечном итоге я не считаю, что мы переплатили. Фактически мы выкупили время. Самостоятельное построение сети в 200 отделений, которую мы получили с покупкой Импэксбанка, обошлось бы дешевле, но на это ушло бы три-четыре года.
– Ходят слухи, что до того, как вы возглавили российский Райффайзенбанк, предыдущее руководство банка в лице Мишеля Пе рирена считало эту сделку стратегически неверной...
– Это не так. Мишель Перирен ничего не знал о сделке, переговоры с Импэксбанком начались в середине декабря 2005 года, уже после принятия решения о смене руководства и его ухода. Поэтому он не мог быть ни за, ни против этой сделки. Спросите его сами.
– Последние $50 млн по сделке вы перечислили продавцам досрочно, не дожидаясь аудированной отчетности за 2006 год, почему?
– Нам нужно было ускорить процесс интеграции между банками, а заниматься этим полным ходом до закрытия сделки мы не могли.
– Тем не менее процесс не ускорился, а замедлился. Первоначально юридическое объединение двух банков было намечено на март 2007 года, теперь перенесено на конец года...
– Законодательство и нормативные акты Банка России не позволяют одновременно производить объединение и увеличивать уставный капитал. Поэтому объединение пришлось отложить до завершения процесса увеличения капиталов обоих банков. В про тивном случае возможности дальнейшего роста бизнеса обоих банков были бы ограничены до завершения процесса объединения. Это небыстрый процесс, а для нас недопустимо в течение целого года заниматься только интеграцией и забыть о бизнесе.
– Почему было принято решение отказаться от бренда Импэксбанка?
– Мы считаем, что бренд Райффайзенбанка сильнее, а поддерживать два бренда одновременно слишком дорого. К тому же смена бренда приобретенного банка вписывается в общую стратегию группы "Райффайзен". Исключения были сделаны лишь для Украины, где приобретался второй по величине банк. Там "Аваль" был переименован в "Райффайзен Банк Аваль". По этой же причине мы сохранили название банка в Белоруссии. К названию "Приорбанк" добавили "член группы "Райффайзен"". Та же история с Татрабанком – третьим по величине банком в Словакии. Правда, там дополнительную роль сыграла история банка, который сущест вовал еще до 30-х годов прошлого века. Во всех других странах присутствия группы "Райффайзен" приобретенные банки переименовывались в Райффайзенбанк плюс название страны.
– Что будет после того, как завершится юридическое объединение и банки перейдут на единый бренд?
– Юридическое объединение – лишь первый этап интеграции. После того как он будет завершен, потребуется еще два-три года на операционное и техническое объединение банков. Сейчас в Импэксбанке и Райффайзенбанке разные операционные системы, при этом перевести Импэксбанк на систему "Райффайзена" или наоборот невозможно, поскольку ни одна из них не поддерживает такой объем операций, которого мы планируем достичь. Планируемый рост активов, согласно нашим планам, должен составить примерно 50 %. Это выше, чем в среднем по рынку, что дает нам возможность увеличивать свою долю.
– Сейчас ваша доля с учетом приобретения Импэкс банка со ставляет 2,2 % – рекорд среди иностранных банков, работающих в России. Вы намерены перегнать кого-то из крупных российских игроков?
– Загадывать сложно. Вряд ли наша доля в течение даже десяти лет достигнет 10 %: рынок слишком большой. В целом для группы "Райффайзен" приемлемый показатель на розничных рынках России и других стран СНГ – 5 %, то есть планируемый рост – минимум в два раза. При этом российский рынок – самый важный из тех, где мы присутствуем. Среди дочерних банков группы "Райффайзен" в разных странах российский банк – самый большой и доходный.
– А как обстоят дела с рисками, в частности, невозвратов? Насколько они высоки в России по сравнению с другими странами присутствия группы "Райффайзен"?