Теоретики перевода не прекращают спорить о том, до какой степени индивидуальность переводчика может проявляться в его работе и не должен ли яркий поэт несколько притушить свои собственные краски, чтобы не затмить переводимого автора. В этом споре я остаюсь на стороне переводчика. Мне кажется очень важным то обстоятельство, что, читая переводы Маршака или Пастернака, Левика или Гелескула, мы всегда узнаём их авторство. Ведь эти переводы стали для нас явлением собственной нашей поэзии.
Переводы М. Бородицкой в той же самой степени не спутаешь ни с какими другими - как её собственные стихи и прозу. Просто потому что они - талантливы. Всё, что пишет, она пишет на одном дыхании, стихи и переводы как-то незаметно перетекают друг в друга и создают единое ощущение большой литературы - по степени "вживаемости" в текст, органичности, удивительной чистоте звучания и остроумию они соответствуют тому, что мы называем "переводами поэта". В данном случае я не постеснялся бы сказать: выдающимися переводами значительного поэта.
Читайте Бородицкую, друзья! Это высокое чтение.
Отступление седьмое
Раз уж снова зашёл разговор о переводах, возвращусь к вопросу, который нет-нет да и задают читатели: а нужна ли вообще детская поэзия? Не уловка ли это взрослого разума?
Предположим, русская или английская детская поэзия насчитывают, по меньшей мере, три века своей истории. А, к примеру, французская появилась по-настоящему только в нашем столетии. И что - французские дети были необразованны и менее развиты?
И всё же неспроста, скажем, в той же Франции уже три с лишним десятилетия наблюдается буквально бум детской поэзии. Появление всевозможных антологий, тематических сборников, песенников и фольклорных книжек привело в конце концов к обострению интереса у самых разных поэтов (но прежде всего, у читателей) к детскому стиху как таковому. Да и перевод тому способствовал, в том числе, перевод с русского: Чуковский в переложении Эльзы Триоле или целая антология русской детской поэзии, которую составил и перевёл Жан-Люк Моро.
Кажется, именно с лёгкой руки Моро наша детская поэзия, в частности, её игровая, "перевёртышная" самобытность стала достоянием и французской традиции. Сам Жан-Люк, большой знаток и мастер детского стиха, с виртуозностью перенимает и "переигрывает" наши формы и формулы, заманивая своего переводчика в хитрые ловушки.
В его книге "Стихи зелёной мышки" есть стихотворение про слона, в подстрочном переводе звучащее так: "Слон так велик, так тяжёл, но это не слон, а сама любовь! У животных, как, впрочем, и у других живых существ, самые большие создания - самые лучшие…" Стихи так и просились в перевод, и переводчик, ничтоже сумняшеся, написал:
Слон тяжёл, огромен слон,
Но зато и ласков он.
Видно, даже у зверей
Тот, кто больше, тот добрей!
А написав, схватился за голову: ведь он перевёл с французского… стихотворение Бориса Заходера, которое перевёл на французский Жан-Люк Моро:
Больше всех на суше он,
Очень, очень добрый СЛОН.
Видно, даже у зверей
Тот и больше, кто добрей!
Представляю себе, как могут себя почувствовать, предположим, гипотетические английские переводчики знаменитых "английских" стихов Вадима Левина!
Кстати, о Вадиме Левине. Ехал он однажды в поезде "Москва - Симферополь" с двумя симпатичными соседками по купе - бабушкой и её пятилетней внучкой. В Харькове бабушка купила для внучки детский журнал, да вот незадача - журнал оказался на украинском языке и назывался "Малятко". Вадим Левин решил помочь маленькой девочке, нашёл в журнале понравившееся ему стихотворение и быстро перевёл его с украинского на русский:
- Ой ты, Петя-петушок, -
Удивилась хрюшка, -
Почему ты гребешок
Носишь на макушке?
Отвечал Петух свинье:
- Где же взять карманы мне?
"На следующий день, - продолжает В. Левин, - в разговоре с редактором крымского издательства я рассказал о том, что "открыл" хорошего украинского поэта Владимира Орлова и был бы рад переводить его на русский, если бы меня с ним познакомили.
- Познакомить нетрудно, - сказала редактор. - Мы с ним дружим. Владимир Орлов живёт в Симферополе, в пяти минутах ходьбы отсюда. Боюсь только, что переводить его на русский вам не удастся.
Через десять минут я уже рассказывал автору его стихотворение в своём обратном переводе с украинского. В ответ он прочёл мне свой подлинник:
- Ну и Петя-петушок, -
Удивились хрюшки, -
Почему ты гребешок
Носишь на макушке?
Говорит Петух в ответ:
- У меня карманов нет".
Дело, конечно, не в близости украинского и русского языков - переводчики знают, что подобная близость только усложняет работу, дело в конгениальности переводчика и автора, как бы выспренне не звучало это слово.
Где-то поблизости лежит противоположный приём, когда переводчик детских стихов "внедряет" в иноязычный текст ассоциации из отечественной поэзии, подхватывая игру, заложенную в оригинале. Так, приходят на память замечательные перифразы строк русской лирики из переложения "Алисы в стране чудес", сделанного тем же Б. Заходером, в частности, воскрешение на страницах сказки детской поэтической классики, представленной именами Л. Модзалевского, К Петерсона, А. Пчельниковой, В. Фёдорова…
Но куда как любопытно, когда объектом детской пародии становится сама традиция перевода. В "Книге о пародии" её автор Вл. Новиков справедливо утверждал, что пародия - "это всегда образ жанра". С подобным "образом" лихо разделался во "Вредных советах" Григорий Остер. "Ход от противного", который Остер так любит использовать, оказался весьма удобен именно для пародии, причём источником её становится - помимо усреднённой, безликой детской лирики - объект, вроде бы, далёкий от творчества для детей.
Если друг твой самый лучший
Поскользнулся и упал,
Покажи на друга пальцем
И хватайся за живот.
Пусть он видит, лёжа в луже, -
Ты ничуть не огорчён.
Настоящий друг не любит
Огорчать своих друзей.
Это, естественно, Остер. А вот древнегреческий поэт Архилох в переводе В. В. Вересаева:
В каждом деле полагайся на богов. Не раз людей,
На земле лежащих чёрной, ставят на ноги они.
Так же часто и стоящих очень крепко на ногах
Опрокидывают навзничь, и тогда идёт беда.
На мой взгляд, Г. Остер тонко подхватил интонацию, ритмический строй назидательной античной лирики - вернее, традиции её перевода на русский язык, идущей ещё от Пушкина (достаточно вспомнить его известное переложение из Катулла: "Пьяной горечью Фалерна / Чашу мне наполни, мальчик…"), соединив эту интонацию с укоренившимися в современной детской поэзии "звуковыми" ходами обэриутов: "Бегал Петька по дороге, по дороге, по панели, бегал Петька по панели и кричал он: "Га-ра-рар!" Я теперь уже не Петька, разойдитесь! разойдитесь! Я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль…" (Д. Хармс, "Игра").
Дело, конечно, не в копировании схожих сюжетов, не только в интонационном родстве. "Вредные советы" обыгрывают штампы "добрых" советов, а через них - штампы поведения и мышления. Поэтому стихи легко становятся сатирой - в классических канонах этого жанра.
Чужое имя, маска, которые нередко оборачиваются пародией, - одно из характерных качеств детской поэзии. Да и она сама зачастую становится маской, под которой скрываются приёмы взрослой лирики. Чем дальше - тем больше: уловленная "передразнивателем" лирическая традиция может стать объектом вторичного пародирования - уже на уровне пародии на самого автора, в частности, и автора "Вредных советов". Когда-то по этому поводу у меня придумалось такое:
Если вы решили, скажем,
Порезвиться в эпиграммах,
Михалкова не тревожьте -
Старых лучше поберечь.
И Успенского не надо
Беспокоить - он ответит.
Подразните лучше Гришу.
Гриша мягкий. Он простит.
Таким образом детская поэзия обретает карнавальность, множественность масок, когда чужое имя становится необходимой составной частью поэтической речи, обращённой к маленькому читателю. Так что "уловки взрослого разума" нам, надеюсь, только на руку!
От физики до филологии
Григорий Кружков
Скажу честно: я очень люблю стихи для детей Григория Кружкова и нередко их перечитываю. Беру какую-нибудь его книжку - и начинаю читать-читать-читать-читать, пока не дохожу до страничек с "Содержанием", и эти странички тоже прочитываю с большим удовольствием, потому что, читая содержание, такие опытные читатели, как мы с вами, получаем удовольствие от одних только уже знакомых названий, а заодно и вспоминаем то, что сейчас прочли. Например, что-нибудь такое:
Яблоко пишет,
А тыква читает.
Яблоко часто
По тыкве скучает.
И представляет,
Как в дальней дали
Тыква ведёт
По ручьям корабли.Если вдруг Тыква
С обиды заплачет,
Яблоко сразу
На помощь прискачет
Яблоко хочет,
Чтоб тыква о нём
Думать могла,
Как о друге своём.Яблоко очень
На тыкву похоже:
Круглое тоже
И с хвостиком тоже.
Яблоко любит
Смотреть с высоты…
Тыква, а Тыква,
А что любишь ты?
Григорий Кружков - большой знаток английской, ирландской, американской поэзии. Редкий случай: он стал лауреатом Государственной премии именно за свои переводы. Ведь каждый из них всегда становится настоящим ЯВЛЕНИЕМ чего-нибудь незаигранного. Переводные книги Г. Кружкова для детей уже стали классикой жанра. Вспомним "Чашку по-английски", в которой он пересказал или, как сам любит говорить, "переиграл" английского поэта Спайка Миллигана. Или книжку "Посыпайте голову перцем", где собраны американские стихи для детей. Или сборник Хилэра Беллока "Книга зверей для несносных детей". Или, наконец, "Охоту на Снарка" Льюиса Кэррола и "Сказки Биг Бена"… И, конечно, вспомним оригинальные книги Кружкова - "Подлёдный лов", "Холодно - горячо", "Облако с крылечком", "Старушка в башмаке", "Рукопись, найденная в капусте", "Письмо с парохода" - как и переводы, они наполнены поэзией детского простодушия и удивления, которых хватит и на выдуманную, и на реальную жизнь.
Стихи и переводы Кружкова дополняют друг друга. Вот английский поэт Э. В. Рью:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕПАХИ, ДРЕМЛЮЩЕЙ ПОД КУСТОМ РОЗ
НЕПОДАЛЁКУ ОТ ПЧЕЛИНОГО УЛЬЯ В ПОЛУДЕННЫЙ ЧАС,
КОГДА СОБАКА РЫЩЕТ ВОКРУГ,
А КУКУШКА КУКУЕТ В ДАЛЬНЕМ ЛЕСУ
С какого ни посмотришь бока -
Я в мире очень одинока!
А вот сам Г. Кужков:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОЛКА, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ПОГУЛЯТЬ
В ХОРОШУЮ ПОГОДУ ДА ЗАОДНО И ОВЕЧЕК ПРОВЕДАТЬ,
НО ВСТРЕТИЛ ПО ДОРОГЕ СОБАКУ-ОВЧАРКУ И ПЕРЕДУМАЛ
Ну её совсем, овчарку, -
Всё гуляние насмарку!
Если стихи перекликаются таким образом, тут-то и начинаются самые настоящие чудеса. Чудеса в книжке.
Всегда интересно читать, что люди пишущие пишут про самих себя.
Однажды Григорий Кружков написал про себя так: "Можно сколько угодно смеяться над "золотым детством", и всё-таки для нас, взрослых, оно всегда было и будет символом утраченного рая. Доверчивость, доброта, умение мечтать - лучшие человеческие черты - естественно свойственны всем (именно всем!) детёнышам человечества. Даже столь любимый детьми абсурд - выражение свободы ребёнка, его божественного всемогущества.
Жаль, что я так мало, в сущности, писал для детей; нет на свете занятия милее и душеполезнее.
Порою кажется: лучше бы я остался физиком. Вот ведь учили же меня много лет, объясняли - видишь, это протон, он очень мелкий, а это электрон, он ещё мельче, смотри внимательней, на нём чёрточка: значит, в нём отрицательный полюс… А я не присмотрелся, отвлёкся…
Но всё-таки нельзя отрицать: кое-что наука мне дала. Я почувствовал, что под видимой поверхностью вещей есть невидимые вещи, есть таинственные лучи, пронизывающие мир: альфа, бета, потоки призрачных невесомых нейтрино. Мне удалось определить, что нейтрино бывают двух сортов: лунные и солнечные. Лунные - это нейтрино печали, солнечные, наоборот, - беспричинной радости. Для того, чтобы писать стихи, нужна смесь тех и других в определённой пропорции. Только вот в какой?"
Кружков не случайно так настойчиво вспоминает о науке: в молодости он был физиком, а диссертацию защитил по филологии! Вот такой он учёный человек. Но учёность совершенно не мешает ему писать для детей. Его детские стихи, так же как сказки и переводы, переполнены любовью к лёгкому абсурду, который на поверку оказывается вовсе не абсурдом, а самой что ни на есть реальностью, только увиденной глазами ребёнка.
ЯЙЦО рифмуется с ЛИЦОМ,
И это неспроста:
В них много, много общего,
К примеру, круглота.И если курочка горда
Сияющим яйцом,
Она взлетает на крыльцо
С сияющим лицом.Рифмуется КОМПОТ и КОТ,
И это не случайно:
Сокрыт в компоте СУХОФРУКТ,
В котах сокрыта ТАЙНА.И всё же очень вас прошу:
Чтоб избежать промашки,
В КАСТРЮЛЯХ НЕ ДЕРЖАТЬ КОТОВ,
НЕ РАЗЛИВАТЬ ИХ В ЧАШКИ.Да, кстати, надо уделить
Внимание и КОШКАМ:
Хотя они, на первый взгляд,
Рифмуются с ОКОШКОМ,НЕ НАДО КОШКУ ПРОТИРАТЬ
ДО БЛЕСКА МОКРОЙ ТРЯПКОЙ!
Она умоется сама
Язычком и лапкой.
Читать такие стихи одно удовольствие. Потому что в них "аукаются" талант, остроумие и тонкое умение в нескольких словах сказать о многом. Что и присуще детскому творчеству Григория Кружкова.
Было такое время, когда Григорий Михайлович преподавал в Колумбийском университете. Однажды я попал в Нью-Йорк, мы увиделись с Кружковым на ступенях знаменитой лестницы этого самого Колумбийского университета, и мой друг, писавший тогда диссертацию о творчестве ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса, провёл меня таинственными университетскими закоулками куда-то под самую крышу ближайшего здания, в крохотную каморку своего "преподавательского офиса". А потом вдруг открыл окно, схватил меня за руку и буквально выволок на крышу университета. Мы долго пробирались вдоль водостока до края крыши, и там, наконец, расположились, свесив ноги над той же самой лестницей, где встретились получасом ранее. Вечерний вид на Нью-Йорк с "колумбийской" высоты запал мне в душу; сегодня, читая и перечитывая стихи и переводы Кружкова, я вспоминаю, как он легко и свободно шёл по крыше университета, и эта мальчишеская решительность представляется теперь неким особым знаком среди тех, что потаённым образом определяют жизнь и литературную судьбу.
"Когда-нибудь в тридцатом веке…"
Сергей Махотин
В одной из своих многочисленных поездок по стране мой друг Сергей Махотин однажды оказался в Магнитогорске. На одном из выступлений дети его спросили: "А как вы выбрали себе такой талант?"
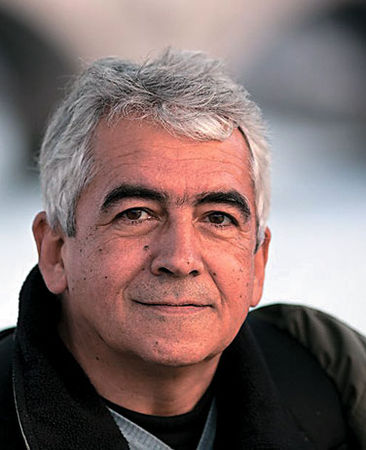
Я на все сто уверен: Сергей Анатольевич - человек не одного, а многих удивительных талантов: если пишет - то блестяще, если фотографирует - то все красавцы, если ведёт передачу по радио - слушает вся страна, если сочиняет и поёт песни - зал падает без чувств, если ведёт семинар детских писателей - рождаются гении…
Что до детского писательства, то у Сергея Махотина - редкий дар! - в равной степени получаются и стихи, и проза. В одном своём интервью он сказал: "К прозе ты готовишься, как к приходу важного гостя. Размышляешь, с чего начать разговор, что подать на десерт. Порой думаешь: хоть бы он и не приходил вовсе, гость этот! Столько с ним хлопот! А стихотворение вбегает в дом, как ребёнок, - без стука, без спроса. И ты радуешься его неожиданному приходу. Ведь неизвестно, когда он в следующий раз явится. А иногда прибежит не один, а приведёт с собой целую ватагу. Тут уж не зевай - только успевай записывать! А важный гость пусть пока подождёт".
Сознаюсь в своей слабости: я очень люблю цитировать Сергея Махотина. Что и делаю. В статье "День космонавтиков, или Великая Детская Утопия" Махотин заметил: "Дар детского писателя состоит в том, что, обладая литературным мастерством, он заряжается энергией своего маленького лирического героя, улавливает малейшие движения его души, мгновенную смену настроений, угадывает причудливую логику его мыслей и поступков и умеет передать всё это предельно простыми языковыми средствами". И добавил: "У детского писателя самая приятная профессиональная обязанность. Детский писатель - должен быть счастлив". В этих словах сформулировано кредо детского писателя, и сам Сергей Махотин, насколько мне известно, неукоснительно его придерживается.
Сергей Анатольевич Махотин активно присутствует в нашей детской литературе с конца 70-х годов, когда его стихи стали публиковаться в журналах и газетах, а потом и сам он стал энергичным редактором - сначала в газете "Ленинские искры", потом в журнале "Костёр", потом на петербургском радио, где он до сих пор придумывает и ведёт несколько популярных детских передач… Эта работа долгие годы позволяла Сергею Махотину оставаться в гуще детской жизни. Я хорошо помню, что за его рабочим столом в редакции "Костра" вся стена с потолка до пола была увешена фотографиями детей, - это были многочисленные сюжеты, которые так или иначе входили и в творчество самого Махотина. А сюжеты эти далеко не всегда просто милы или забавны - даже дошкольнику должны быть понятны чувства, переполняющие маленького героя:
Хвастал Орлов долгожданной удачей -
Выгодно купленной шапкой собачьей.В школе рассказывал он без утайки,
Что всех теплее сибирские лайки,
Могут в любые морозы согреть.Я не могу на Орлова смотреть!
Стихи Махотина - удивительный сплав доброты, чистоты, выдумки и знания детской психологии. Дело, как это нередко бывает, в том, что в жизни он умеет находить сюжеты в характерных деталях, мимо которых многие проходят, не задумываясь, а непосредственно в стихах - те внезапные звуковые сближения, которые мгновенно преобразуют действительность, делая её поэтической и одухотворённой:
У реки волна - речная,
У ручья волна - ручная.У лесной тропинки
Мы к ручью присядем,
И по мокрой спинке
Мы волну погладим.
Так и хочется сказать: "Вот оно что! А я и не знал! Вот как бывает!.." Оказывается - бывает!
У Махотина много стихов о сочувствии. Для малышовой аудитории сочувствие - это понятие достаточно абстрактное. И нужно обладать чутким "резонансом" души, чтобы совпадать с маленьким читателем и слушателем в ощущениях и понятиях:
Минут сорок пять
Я, наверно, друзья,
Глядел на трудящегося
Муравья.Упорно хвоинку
Тащил он в жильё,
Влезал на травинку.
Спускался с неё.Вдруг тяжкую ношу
Отбросил он прочь
И крикнул:
- Глазеешь?!
Нет, чтобы помочь!