Интерес к военной организации государства, военному праву, международным соглашениям и договорам по итогам войн и конфликтов проявлял на протяжении всей своей жизни профессор Оттон Оттонович Эйхельман (род. в 1854 г.). К Первой мировой войне он стал признанным экспертом в вопросах международного права по самым разным его направлениям. Он читал обширные курсы лекций по этой тематике, был автором учебных материалов. Везде, где бы ни преподавал Оттон Оттонович – в Ярославле в Демидовском юридическом лицее в 1880-х или в Киеве в Университете св. Владимира в 1890-х гг., его лекции пользовались популярностью среди студентов и вниманием у местной элиты. Он сам был в числе уважаемых граждан Киева. Книги Эйхельмана издавались не только в этих двух издательских центрах, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Житомире. Наряду с трудами по специальным отраслям права, в своих публикациях он предстает и теоретиком-государствоведом, знатоком русской правовой системы. Он был не только "истолкователем" правовых норм, но и автором оригинальных предложений, в частности по совершенствованию нормативной базы тогдашнего университетского образования. Как и другие профессора из немцев, Эйхельман был проводником германского опыта совершенствования законодательства.
Представители баронского рода Нольде также внесли свой вклад в становление национального законодательства и популяризацию основ международного права.
Эдуард Федорович Нольде занимался проблемами питейного дела и акцизной системы, рассматривал такие проблемы, как "кабаки и вопрос о сокращении их", "несостоятельность акцизного контроля", "акцизные чиновники", "злоупотребления и акцизный дефицит".
Александр Эмильевич Нольде (1873 – 1919 гг.) служил приват-доцентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Его темой были своды законов различных эпох, российских народов, губерний .
Но самой заметной фигурой в этой династии стал барон Борис Эммануилович Нольде (1876 – 1948 гг.), который прожил большую творческую жизнь и был разносторонним, универсальным государствоведом. Его перу принадлежали и фундаментальные труды по русскому государственному праву и международному праву. Его работы неизменно вызывали полемику, публичные обсуждения, будили общественную мысль.
Он чутко реагировал на политические события, которыми была полна его эпоха. Со скрупулезностью истинного ученого он исследовал современность, в том числе и начатки конституционного развития в России. Во время Первой мировой войны он выпустил несколько книг, посвященных анализу текущей правовой международной ситуации. Он поддержал созыв Учредительного собрания в 1917 г.
Б.Э.Нольде был представителем младшего поколения российских государствоведов второй половины XIX – начала XX веков. Он учился у таких своих современников, как Федор Федорович Мартенс (1845 – 1909 гг.), Александр Александрович Кизеветтер (1866 – 1933 гг.), Владимир Матвеевич Гессен (1868 – 1920 гг.). Жизнь каждого из этих профессоров, чьи труды переиздаются до сих пор и являются обязательным чтением для современных отечественных юристов, заслуживает отдельного очерка.
Ф.Ф.Мартенс систематизировал международное право для российского читателя. Делом его жизни стало фундаментальное издание "Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами". Это 14-томный труд (а некоторые из томов имели еще и несколько частей) стал первым полным собранием международных договоров России с иностранными государствами. А.А.Кизеветтер создал историю российского законодательства, причем наряду с фундаментальным трудом его отдельные книги были посвящены такими узловым этапам отечественной истории, как эпоха Ивана Грозного и реформы Петра Великого.
В.М.Гессен был теоретиком в области государства и права, рассматривал отдельные сложные проблемы, в том числе неприкосновенность личности, подданство, суверенитет. Как и большинство его коллег, В.М.Гессен был либералом и воспринял политические изменения в России в эпоху Николая II с воодушевлением, посвятив ряд ключевых своих работ теории правового государства и конституционному праву в России. В.М.Гессен справедливо считается теоретиком организации государственной службы в России, он создал теорию государственной должности как первоосновы службы государю, установил связь между должностью и управленческими задачами, компетенцией, навыками, ответственностью чиновника. Эта и ей подобные теории способствовали формированию достаточно жесткой конструкции государственной службы, которая развивалась тем не менее под воздействием царских повелений и желаний.
В ряду этих источников выделяется и работа барона Карла Мартенса (1790 – 1863 гг.), который помимо общих представлений об организации дипломатического ведомства дал и практические рекомендации, как именно следует, опираясь на тогда уже сложившиеся международных традиции, европейские, в первую очередь, вести дипломатическую деятельность, устанавливать, поддерживать, развивать или прерывать отношения с другими странами.
Как известно, в Россию проникали и другие европейские идеи – анархизм, социализм, марксизм… Профессора из немцев не разделяли этих взглядов. В массе своей это были либералы, не принимавшие коллективизма взамен свободы. Те из них, кто пережил Октябрьскую революцию, стал эмигрантом, уехал в Германию. И книги на русском о России и для России они издавали уже там…
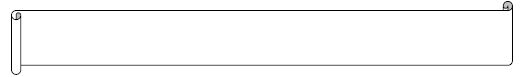
Государственная служба и подданство
Долгие десятилетия вопрос о подданстве того или иного чиновника вообще не являлся обсуждаемым, тем более главным: в России, как и в других абсолютных монархиях, служили не стране, а государю, и по его желанию, и только по его желанию, принимались в армию или в придворную "рать" те или иные чиновники. Лишь с течением времени этот фактор стал играть свою роль, что было связано с внешнеполитическими событиями (такими, как образование Германской империи) и особенностями внутреннего курса (например, Николай II, датчанин по происхождению, женатый на немке, не жаловал иностранцев, делал все, чтобы они принимали российское подданство).
Вряд ли точным является суждение Т.Г.Архиповой, М.Ф.Румянцевой и А.С.Сенина о том, что "конец XVII – начало XVIII в. характеризуется переходом от службы государю к государственной службе".
Полагаем, что это вообще вопрос более поздней эпохи – второй половины XIX века, но никак не конца XVII – начала XVIII веков. При Алексее Михайловиче, как и при Петре I, для самодержца не возникало вопроса, иностранец или русский тот или иной его слуга – важно было, что он был готов исполнять волю царя, действовать в интересах государства. Царь, а не закон, решал, кто будет занимать тот или иной пост, где и какие выполнять поручения. Сам институт подданства предполагал призыв на службу по воле и от имени царя. В России именно институт подданства стал в конечном счете мощным "вызывателем" иностранцев на русскую службу – не государство в лице своих органов и законов определяло въезд в страну тех или иных специалистов, а государь привлекал иностранцев к себе на службу.
Интересно, что в политическом отношении иностранцы занимали уже в это время самые разные позиции: так, руководителем стрельцов в мятеже, поднятом царевной Софьей, был Иван Циклер, которого Петр в последствии казнил.
Так что при анализе деятельности того или иного дореволюционного высокопоставленного чиновника, в первую очередь, нужно принимать в расчет его отношения с государем. Например, в служебной биографии Витте их было два – отец и сын, Александр III и Николай II, которые вершили судьбы огромной империи и лично его судьбу. Более непохожих друг на друга людей трудно было себе представить. На всю жизнь образ Александра III сохранился для Витте светлым и близким. В отличие от него Николай казался, и с годами это впечатление усиливалось, непостоянным, коварным, лживым человеком, сделавшим все, чтобы погубить и страну, и свою семью. В "Избранных воспоминаниях" Сергей Юльевич в красках описал катастрофу Ходынки, когда задавленными во время коронации императора оказались тысячи людей, но Николай, несмотря на это, и не подумал отменять торжественные мероприятия, в том числе и бал у французского посланника – как раз в тот момент, когда в Москве стоял стон по погибшим …
"Император Александр III относился глубоко сердечно ко всем нуждам русского крестьянства в частности и русских слабых людей вообще. Это был тип действительно самодержавного монарха, самодержавного русского царя; а понятие о самодержавном русском царе неразрывно связано с понятием о царе как о покровителе-печальнике русского народа, защитнике русского народа". Витте был убежден, что если бы Александр III продолжал царствовать, то "по собственному убеждению двинул бы Россию на путь спокойного либерализма", никогда не ввязался бы в гибельную авантюру русско-японской войны, приближал бы к себе людей, не вызывавших в народе такой глубокой ненависти, как это случилось при его сыне.
Среди отвратительных типов, которых приблизил к себе Николай, был, в частности, Трепов – "вахмистр по воспитанию" и "погромщик по убеждению"…