Я так устал от ходьбы по раскаленным холмам, что тотчас заснул глубоким сном. Проснулся я оттого, что чья-то сильная рука вцепилась в мое плечо и стащила меня с койки. В тусклом свете керосиновой лампы, свисавшей с потолка, я увидел четырех незнакомых матросов. Оказалось, что они с "Бермуды", английского четырехмачтовика, которому утром предстояло выйти в море. На судне не хватало одного матроса, вот они и пришли за мной.
"Соглашайся, - уговаривали они меня, - это лучший корабль в порту, да и полиция до тебя не доберется". Мне предлагали должность матроса первого класса с жалованьем в двадцать раз больше, чем на "Генриетте". Это решило дело. Я быстро сложил свой мешок, мы вышли на палубу, спустили его в спасательную шлюпку - мои новые знакомые "одолжили" ее на каком-то корабле, - прыгнули в шлюпку сами и отвалили от судна.
Плыли мы мили три. Из пьяной болтовни моих спутников я узнал, что "Бермуда" направляется в чилийский порт Антофагаста за нитратом для Европы. Тогда большинство парусников ходило по этому маршруту. Матросы хвастали, что капитан обещал, если они привезут меня, столько денег, что уж на четыре-то бутылки наверняка хватит. Как только мы поднялись на борт, меня отвели в каюту капитана, и я подписал контракт.
Так я оказался на английском корабле, где говорили только по-английски. После завтрака я вышел на палубу. Я сразу заметил, что у нас не больше половины команды; остальные сбежали, и капитан не пытался их заменить. Так поступали многие капитаны, экономя деньги своим хозяевам и наживаясь сами за счет невыплаченного жалованья.
Боцман велел мне взобраться наверх и отдать сезни , а остальной команде выбирать снасти, чтобы поставить паруса. Когда я спустился на палубу, паруса были поставлены, брасы обтянуты и мы с береговым бризом выходили в море курсом на юг.
Ко мне обратился мускулистый матрос средних лет с невиданно густой растительностью на голове и лице. Я в ответ улыбнулся, покачал отрицательно головой и на лучшем своем школьном английском произнес:
- Я не говорю по-английски, сэр.
- Чтоб мне провалиться! - набатным колоколом загрохотал волосатый. - Нанялся на этот проклятый английский корабль, а сам не знает ни одного проклятого английского слова. И не вздумай снова величать меня проклятым "сэром". Это годится только для проклятых ублюдков, если у тебя хватит ума так к ним обратиться. Они, будь трижды прокляты, проглотят и это.
- Но я немного понимаю, - сказал я, улыбаясь этому человеку. Не по росту длинные сильные руки и мохнатая, словно у медведя, грудь придавали ему несколько комичный вид.
- Я тебя научу английскому, парень, я тебя научу, - гремел он, а глаза его светились дружелюбием. - На этом корабле одни боши и итальяшки, по-английски слова прилично не выговорят, готов хоть пари держать! Взгляни-ка, к примеру, на этого шотландца! - Он ткнул рукой в матроса, стоявшего рядом, не переставая оглашать звуками своего голоса весь корабль. - Может, ты думаешь, он говорит по-английски? Ничуть не бывало! Ни одна собака его не поймет! Ирландия, парень, единственная в мире страна, где знают толк в английском, и тебя я тоже выучу. А вот тот вахтенный, ублюдок из Ливерпуля, бормочет так, что свинью и ту скорее поймешь.
Здесь была совсем иная обстановка, чем на "Генриетте". Каждый был сам себе хозяин, делал свое дело так, как считал нужным, говорил что хотел. Никто не следил за дисциплиной, люди не чувствовали железной руки, острого глаза, подмечающего каждое их движение, не боялись, что их обругают или накажут. Матросы, веселые ребята, любили и умели работать. Все они уже много лет ходили на парусниках. Команда состояла в основном из скандинавов, англичан и немцев, еще были два американца - один, из Чикаго, плавал раньше по Великим озерам, а второй, индеец-полукровка, работал на медных рудниках в Санта-Росалии, - молодой австралиец и финн-плотник. "Генриетта" походила на тюрьму. Здесь я пользовался полной свободой и, главное, уважением. Я и не предполагал, что могу быть в плавании так счастлив.
Мы взяли курс на юг, пересекли экватор и, подгоняемые юго-восточным пассатом, долго шли на юг в бейдевинд левого галса. Затем мы легли на другой галс и направились к берегам Чили. Два месяца мы стояли среди других парусников на рейде и сгружали с лихтеров на борт нитрат. Когда наконец мы пошли на юг, в Европу, судно сидело в воде на целый фут глубже положенного. Матросы ворчали, зная, что в шторм волны будут перекатываться через палубу. В Антофагасте капитан взял только одного матроса, хотя рабочей силы там было сколько угодно. "Проклятый капитан! - гремел Пэдди. - Кровавым потом мы изойдем, пока будем огибать мыс Горн зимой, когда проклятый корабль стоит без движения, словно баржа с грузом на реке".
С погодой нам не везло. Провиант весь вышел, мы опаздывали в Гамбург на много месяцев. К этому времени я уже свободно говорил по-английски. Вынесенное из школы оксфордское произношение уступило место ирландскому и шотландскому. Главными моими наставниками были Пэдди и Скотти, молодой матрос из Глазго, который, прежде чем произнести слово, пережевывал его до неузнаваемости. Пэдди был в нашей вахте запевалой, и, пока мы работали, трубные звуки его низкого голоса разносились далеко над морем. Не подтянуть ему мог разве что немой.
В Гамбурге с нами расплатились. Я вышел из английского консульства, позвякивая в кармане золотыми монетами, протиснулся между моими пьяными товарищами и повисшими на них портовыми девками, сел на трамвай и поехал домой. В мое отсутствие мать хлебнула лиха. Из ее писем в Санта-Росалию и Антофагасту я знал, как трудно ей пришлось, и решил расстаться с морем. Плавание на парусниках не сулило ничего хорошего. Я научился любить море и величественные корабли, работу на палубе и на реях, бури и штили, жизнь, полную лишений, но продолжать ее не имело смысла. Даже капитан и его помощник вели самый примитивный образ жизни, который со временем, несомненно, мне опостылеет. Да и денег платили ничтожно мало. Кроме того, я понял, что подходит к концу золотой век больших металлических парусников, появившихся в конце прошлого столетия, что их вытесняют паровые суда, что последние становятся все более выгодными. Чтобы выдержать конкуренцию с ними, хозяева парусников набирали меньше людей, чем надо, хуже кормили команду, не ремонтировали снасти... Парус, благодаря которому было открыто столько новых стран, доживал свои последние дни. Отзвуки его славы коснулись моего слуха, как раз когда мною овладело отчаяние, а теперь замерли где-то вдали.
- Мама, - сказал я, отдавая ей горсточку золотых монет, - я сяду на первое подвернувшееся судно, идущее в Америку; убегу с него, накоплю денег, а потом выпишу тебя и ребят.
На "Бермуде" я наслышался таких историй. Почти все матросы в свое время дезертировали с судов в Соединенных Штатах, Аргентине, Канаде или Австралии. Поработают на берегу, пока не надоест, и снова нанимаются в плавание. Когда они пускались в свои бесконечные рассказы, я их буквально засыпал вопросами: какие там люди да сколько платят... Наконец я избрал своей будущей родиной Штаты, как говорят моряки. В этой стране я смогу зарабатывать столько, чтобы прокормить мать и братьев.
Через несколько дней после расчета я снова отправился в порт, в бюро по найму моряков на английские суда. Комната была битком набита людьми. На доске висело несколько объявлений - требовались матросы, кочегары, кочегары для работы в угольной яме. Зазвонил телефон, инспектор по найму снял трубку.
- Матрос первого класса нужен на "Инкулу", стоит в Бремерхафене, сегодня в полночь выходит в Галвестон! - прокричал он.
- Где этот Галвестон? - спросил я матроса, стоявшего рядом. - Что-то я не слыхал о таком порте.
- В Проклятом заливе, - ответил он.
- В каком заливе? - не понял я.
- Ну, в Проклятом, то есть в Мексиканском.
- Значит, он в Мексике?
- В Штатах, будь они трижды прокляты, в Техасе, - отрезал он, возмущенный моим невежеством.
Я предъявил матросскую книжку, документ о расчете с английского судна и тут же получил работу. Зрение мое теперь значительно улучшилось, и медицинский осмотр я прошел без труда. Дома я быстро упаковался и на поезде доехал до Бремерхафена. В полночь судно снялось с якоря. Прежде чем пересечь Атлантический океан, мы зашли в Порт-Толбот за углем.
Месяц спустя я увидел впереди низкий берег Техаса. Мы стали на якорь и приступили к погрузке хлопка.
Через десять дней трюмы наполнились. Теперь нам предстояло выйти в море. Каждый вечер я сходил на берег, стремясь получше узнать страну, которую собирался избрать своей родиной. Когда я первый раз ступил на ее землю, волнение буквально распирало меня. Я гордо выпрямился и, если бы не прохожие вокруг, громко запел бы от радости.
И вот настал великий миг. Я нарочно оставался на борту до самой последней минуты, чтобы не вызывать прежде времени подозрений и заранее решить, что делать, когда я покину корабль.
Несколько матросов уже сбежали, и у трапа выставили часового с ружьем. Но разве это могло остановить меня? Если бы понадобилось, я добрался бы до страны своих грез даже вплавь. Я прошел на полубак, снял со швартовов предохранительный щит от крыс, повис на руках и, перебирая ими, добрался до берега. На железнодорожной станции я взял билет до Хьюстона, сонного городка без какого-либо будущего, милях в пятидесяти от Галвестона. Там, мне казалось, я буду в безопасности, если меня начнут разыскивать. Был сезон отгрузки хлопка, Галвестонский порт кишел судами, с которых все время бежали матросы, полиция вылавливала их и сдавала на первый попавшийся корабль.
На первых порах я нанялся на работу у фирмы "Бразос Боттом": валил лес, грузил бревна на запряженную быками телегу, на лесопилке разделывал их на доски. Потом мне довелось расчищать лес и заготавливать дрова, пока я не решил, что опасность миновала и можно вернуться в Галвестон. Там я работал на драге, грузил уголь, кочегарил на американских военных транспортах "Макклеллан" и "Самнер". Это был период конфликта с Мексикой, и транспорты перевозили войска. После ликвидации конфликта я остался в Галвестоне, сначала на драге, а потом перешел в грузчики - они лучше зарабатывали. Все это время я откладывал деньги. А тут моя мать получила небольшое наследство от сестры, умершей в Богемии, и я смог забрать ее и братьев в Америку. Вскоре мы купили маленькую ферму в Галвестонском округе и начали новую жизнь. Ничто больше не связывало нас с Европой. Это было за два года до Первой мировой войны.
III
Участок, который мы купили, - целинная земля в прериях - оказался непригодным для земледелия. Мне пришлось снова отправиться в Галвестон, благо до него было не больше двадцати миль, и вступить в союз грузчиков. Когда судов не было, я работал на драге - в то время строили Хьюстонский судоходный канал, ходил на рыболовецких шхунах в залив Кампече у берегов Мексики, убирал хлеб. По мере его созревания я продвигался на север - начинал я в Техасе или Оклахоме, затем переходил в Канзас, а заканчивал в Дакоте. К тому же я стал профессиональным борцом. Братья мои тем временем подросли, им надо было учиться, и в 1919 году мы продали дом и перебрались в Сан-Франциско.
Тут только и начались по-настоящему мои странствия. Я пересек Америку с востока на запад, с севера на юг. Где я только не побывал! В Вашингтоне и Орегоне, на разных реках и побережьях, в горах и долинах! То я валил лес, то строил суда, то ловил рыбу на Аляске, прокладывал дороги и разведывал недра. Затем судьба снова забросила меня на юг. Я исколесил все Тихоокеанское побережье и в конце концов напал на только что открытые нефтепромыслы Западного Техаса и Оклахомы.
В 1920 году я работал клепальщиком на Сан-Францисской верфи и чуть было не потерял глаз, а в 1922 году при погрузке хлопка в Галвестонском порту на японское судно сломал ногу. Почти год мне пришлось ковылять на костылях. Делать мне было нечего, и я снова обратился к книгам. Я не брал их в руки с тех пор, как в 1908 году нанялся юнгой на "Генриетту". Кроме того, я писал стихи, рисовал карикатуры, в том числе и для страничек юмора. Как только я смог ходить, я поехал в Нью-Йорк и Кливленд, чтобы предложить их в газету В Кливленде мне улыбнулось счастье: я подружился с Донахеем, известным карикатуристом газеты "Плейн Дилер", и он предложил мне постоянное место. В последний момент я, однако, отказался от перспективы день-деньской сидеть в редакции прикованным к письменному столу, когда мир так велик и я еще столько не видел! Я нанялся на пароход и плавал по Великим озерам, а когда их сковало льдом, вернулся на Тихоокеанское побережье. Из-за перелома ноги я опять пристрастился к книгам и теперь старался наверстать упущенное. Как только я оставался без работы, я погружался в чтение, пока у меня не кончались деньги.
Все эти годы меня не покидала мечта моего детства - быть здоровым и сильным, и я испробовал разные системы физкультуры и диетического питания.
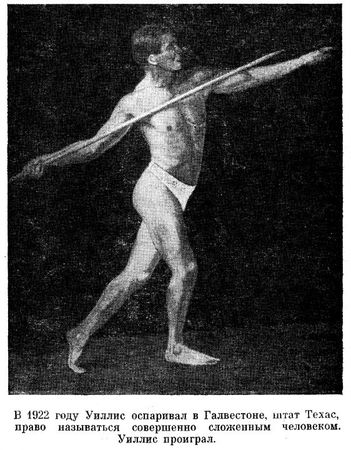
В 1938 году я женился. С Тэдди я встретился на небольшом пароходе "Ингрид". Я ехал во Французскую Гвиану, чтобы помочь бежать невинно осужденному арестанту. Мне рассказала о нем его мать, француженка, державшая в Нью-Йорке гостиницу. Я в ней иногда останавливался. Тэдди собиралась предпринять на "Ингрид" путешествие по Карибскому морю. С паспортом горного инженера в кармане я сошел в Нидерландской Гвиане и оттуда начал атаку на исправительную колонию. С моей помощью арестанту удалось бежать на шлюпке в Бразилию, после чего я вернулся в Нью-Йорк и женился на Тэдди. Она содержала гастрольное бюро. Я распрощался с морем и поселился в Нью-Йорке.
В 1948 году мы отправились в Вест-Индию. Вскоре мы обзавелись туземным шлюпом и несколько месяцев крутились между островами, возвращаясь время от времени на Сент-Томас. Этого нам показалось мало, и мы решили на нашей утлой посудине без мотора пройти до Майами - это составляло около двух тысяч миль. В Карибском море мы попали в шторм, он выбросил шлюп через Юкатанский пролив в Мексиканский залив, там нас как следует помотало, и скорлупка наша дала течь. Пристать мы никуда не могли и, чтобы не пойти ко дну, день и ночь вычерпывали воду. Наконец наш сигнал бедствия заметило торговое судно "Бонито" джэксонвиллской "Саванн стимшип компани". Капитан предложил взять нас на борт и доставить в Гавану, нас, но не наш шлюп, мне же было жалко его бросать. Я попросил взять одну только Тэдди и передать мой SOS береговой охране, но Тэдди наотрез отказалась подняться на борт судна. "Я останусь с тобой", - заявила она, и никакие доводы на нее не действовали. В этом была вся Тэдди - маленькая, вроде бы даже хрупкая на вид, но с железным характером. А ведь раньше она ни разу не садилась даже в обычную лодку, родилась в Нью-Йорке, где за домами не видно неба, и всю жизнь провела в конторе!
В сумерках "Бонито" исчез за горизонтом. Мы продолжали выкачивать воду, надеясь, что капитан передаст наш сигнал SOS и он будет услышан. Мы находились приблизительно в ста двадцати милях к западу от островов Драй-Тортугас. Я выбросил весь балласт, но шлюп все больше погружался в воду, и к ночи палуба почти скрылась под водой. Часа в два мы увидели вдали огни - к нам быстро приближалось судно, оно шло точно на нас. А вдруг оно не заметит шлюп и налетит на него? Тогда останется одно - прыгать в воду. Правда, у нас был небольшой фонарик - единственная вещь, которую пощадил шторм, но чем его заправить? Ни керосина, ни бензина не осталось. За неимением спасательных поясов я привязал Тэдди к себе: она не умела плавать. В последнюю минуту огни отклонились в сторону, и тут я разглядел, что это эсминец. С судна нам бросили конец, и двенадцать часов спустя мы пристали к острову Ки-Уэст.
Оказывается, наши сигналы приняли военные моряки, они выслали на помощь эсминец, он же с помощью радара определил наше местонахождение.
После нескольких недель плавания по высокой волне Тэдди нетвердо держалась на ногах, но как только шлюп привели в порядок, ее потянуло обратно в море. Она питала к нему, можно сказать, необычайную привязанность, а ее выносливость вызывала удивление. Шлюпы Вест-Индии устойчивы и имеют хорошие мореходные качества, но конструкция их примитивна до крайности. Ведь они предназначены только для каботажного плавания. Тэдди, однако, никогда не жаловалась на неудобства.
Несколько лет спустя Тэдди лежала в нью-йоркской больнице. Ее оперировали по поводу щитовидной железы. Я тем временем плавал вдоль побережья и каждые несколько дней возвращался в Нью-Йорк, чтобы навестить Тэдди. Однажды меня осенило: я построю плот и один пересеку на нем Тихий океан. Плот, как настоящее мореходное судно, будет идти по определенному курсу, к месту назначения.
Тэдди запротестовала:
- Один, в твоем-то возрасте! Тебе скоро стукнет шестьдесят! Нет, нет, ни в коем случае!
После того как она выписалась из больницы, я много плавал на танкерах. Не раз во время столкновений судов и взрывов я бывал на волосок от гибели. К тому же целые сутки приходилось дышать испарениями, просачивавшимися сквозь плохо зашпаклеванную палубу, горловины люков и вентиляционные отверстия. На нас лежала чистка резервуаров, и эта работа нередко кончалась тем, что я обвязывал веревкой товарища, отравившегося парами нефти, и вытаскивал его наверх, на свежий воздух. Через два года Тэдди поняла, что работать на танкерах не менее опасно, чем в одиночестве плыть на плоту, и согласилась отпустить меня.
22 июня 1954 года Тэдди стояла на пирсе перуанской военно-морской базы Кальяо и смотрела, как буксир выводит мой плот в открытое море. Я направлялся на острова Самоа. Капитан порта, оформив мне отход, сказал:
- В пути ты не пропадешь, но вот отмахаешь миль этак тысяч семь да и наскочишь на какой-нибудь риф, о котором никто никогда и не слыхал.
Через сто пятьдесят дней, когда все уже давно считали меня погибшим, я пристал к островам Самоа.
Я написал книгу об этом плавании и прочитал лекции в Америке и Европе. И вот тут-то, на шестьдесят пятом году жизни, я обнаружил, что тело мое проявляет признаки усталости. Давал себя знать возраст. Для меня это было ужасным потрясением: железный человек, несгибаемый начал поддаваться. Я думал, что не сломлюсь никогда, и вдруг убедился, что тело мое находится во власти тех же законов, что и все живое. Меня ожидали старость, немощность и в конце концов смерть. Всю свою жизнь я изучал человеческое тело, оно интересовало меня, как ничто другое, и, зная, что со мной происходит, я без труда мог проанализировать симптомы и решить, как поступить.
Мы нашли тихое местечко среди холмов Южной Калифорнии, распахали участок целины и начали выращивать овощи. Я работал как одержимый. Еще бы! Я боролся за свою жизнь. Выиграю или проиграю? Два года это было неясно. Тэдди, не отходившая от меня ни на шаг, иногда боялась, как бы я не переборщил. "Не жди невозможного, - говорила она. - Чего ты хочешь? Ты старый человек, тебе скоро будет семьдесят..." Но я был уверен, что мои знания, проницательность и воля одержат верх. И в конце концов перелом наступил.
Переболев лихорадкой в такой тяжелой форме, что от пота были мокрые не только одеяла и простыни, но даже матрац, я сказал Тэдди: "Я победил!" Правда, прошел еще год, прежде чем я окончательно пришел в себя.