АЛЕКСЕЙ ХЛЫЗОВ
Через балконную дверь я вижу, как Вика прощается с Олегом Смоленцевым. Встала на цыпочки, быстро целует Олега и скрывается в подъезде. Оставшись один, Олег долго стоит неподвижно, вдруг подпрыгивает и срывает ветку над головой.
- Матушка! - кричит Вика из прихожей. - Где мои шлепанцы? Ага, здесь… нашла.
Матушка. Я не заметил, когда она начала так называть мать. Или это у них новая мода?
Вика появляется в комнате с букетом цветов.
- В гости собрались? - спрашивает. - Хорошо. Сейчас мы тебя обрадуем. - Увидела на столе коробку с запонками. - Ах, мать! Не удержалась-таки. Это наш общий подарок. Мы вчера с ней полдня шатались по городским магазинам.
Она приносит вазу, наливает в нее воды и ставит цветы. Я молча наблюдаю за ней. Меня она будто не замечает. Вышла из кухни с печеньем в зубах, направляется в свою комнату.
- Какие новости? - спрашиваю.
- Да, так, - отвечает, - без новостей.
- Что рассказывает Смоленцев?
- Разное.
- А все-таки.
Она холодно смотрит на меня:
- Я не понимаю. Это что - допрос?
- Он, кажется, имеет успех?
- В чем дело, отец? Если ты будешь разговаривать со мной таким тоном, я не стану отвечать.
- Ты ведь знаешь его с того дня, когда он помог мне перевезти мебель?
- Да.
- То есть чуть больше двух месяцев.
- Да.
- Немного же вашей сестре надо.
- Алексей! - Это жена. Сейчас возьмутся за меня вдвоем.
- Ну а что, в самом деле! - кричу. - Увидала смазливую рожу и…
- Ладно, - Вика присаживается к столу. - Что тебя интересует?
- Все интересует. Ты же мне ничего не рассказываешь о себе, о вас… Его выгнали из строительного института?
- Нет, он сам ушел.
- А может, все-таки его ушли?
- Да нет же! Он решил стать актером.
- Разве так становятся актерами?
- А ты знаешь, как ими становятся?
- Учился бы, занимался делом. Была ведь у них там самодеятельность. Вот на досуге…
- У него призвание.
- Это он так решил?
- Конечно. Кто же за него решать будет.
Я начинаю нервничать и говорю уже черт знает что: мол, и я, скажем, хотел бы играть на скрипке, да… Она меня перебивает:
- Отец! Я снова ничего не понимаю. Что, собственно, раздражает тебя в Смоленцеве?
- Легкость его меня раздражает. Этакая столичная штучка: все видел, все знаю, все умею. Подходит на днях к начальнику связи. Хочу, говорит, сдать на первый класс. Тот ему: потерпи малость. А чего терпеть, говорит. Устройте экзамен - и весь сказ.
- Он, что, плохой радист?
- Не в этом дело. Как-то уж очень легко и весело все у него получается. Учился, бросил, снова поступил. Пришел в армию, подружку завел. Служи - не хочу. Вернется, героев будет играть, первых любовников.
Вика медленными движениями разглаживает перед собой скатерть.
- Не так все просто, отец, - тихо произносит она, - не так просто… Играть любовников! Что ты об этом знаешь? Театр - это мир особый, другой мир, там свои трудности, свои радости. Олег любит сцену, верит в свое призвание… Хочет верить. Но как можно быть уверенным вполне? Да и судьба его складывалась нелегко. Только прикоснулся к сцене - и в армию. А время и без того упущено. Будь у тебя сын, пожелал бы ты ему такой судьбы? - Она пристально смотрит на меня. - Молчишь? Вот видишь.
Я снова поговорил с дочерью не так, как хотел, и, наверное, расстроил ее. Но, кажется, у Виктории есть характер. Или ощущение правоты делает ее такой невозмутимой. Поднялась из-за стола и ровным, спокойным голосом говорит:
- Приятного вам вечера. Я немного отдохну, а после позанимаюсь. Через неделю сессия.
ОЛЕГ СМОЛЕНЦЕВ
Из темноты налетает ветер и бьет по лицу теплом прогретых за день ковыльных степей. Зашумели в городке деревья, замигали в листве фонари…
Сирена!
Еще одна.
Тревога!
Над гарнизоном повисает стонущий вой сирен.
Тревога мгновенно отбрасывает будничную жизнь в прошлое, делает ее невообразимо далекой. Я замечал за собой, что после сирены, ракеты или неожиданной команды: "На вылет!" - начинаю думать об этой вдруг исчезнувшей жизни, а не о том, что мне предстоит делать через несколько минут.
Пару часов назад я слышал, как наш штурман разговаривал у подъезда с соседкой.
- Что, Иван Платонович, отвезли жену в роддом?
- Отвез.
- Скоро уже?
- Скоро… - Плотников поднял авоську. В ней лежали баночки с соками. - Вот приготовил…
В доме напротив Левчук сбивал на балконе ящики для цветов. Рядом стояла жена, полная хохлушка в цветастом халате.
Я заглянул в бильярдную. Там улыбающийся Зарецкий натирал мелом кий.
А командир? А второй пилот? Где они сейчас? Что они?
Аэродром ворочается в темноте, словно просыпающийся зверь: утробное урчание автомашин, говор людей на стоянках. Зажглись огни ночного старта. Дымно-голубая полоса прожектора прорезала темноту, попрыгала на бетонке и принялась шарить в ночном небе.
Весь экипаж в сборе.
Оружейники при свете переносной лампы осматривают тележку с ракетами.
Я помогаю механикам подвешивать бомбы. Молчаливая, без суеты и спешки работа. Зарецкий проверяет подвеску, осматривает контровку взрывателей. Остановился, забормотал, заголосил, тычет в кого-то переноской.
- Защелки кассет, - кричит, - закрывать надо, полоротые!
Над летным полем проносится грохот. Скоро он переходит в шелест и замирает. Короткий миг тишины. В разных концах аэродрома запускают двигатели. В темноте над землей плывет густой металлический звон турбин. Они ревут все истошней - огромный хор обезумевших от боли ископаемых гигантов.
Мы занимаем места в кабинах.
- Эй! - кричит мне механик. - Берегись!
Он хлопает люком. Голоса и шум турбин пропадают.
Я усаживаюсь, расправляю ремни, пристегиваюсь к креслу. Так, хорошо. Натягиваю шлемофон и прилаживаю кислородную маску. Кран подачи кислорода открыт. Холодный, чуть пахнущий резиной воздух бежит по лицу.
Стоянка опустела. Бомбардировщик на земле один, и в этой его одинокости есть какая-то почти человеческая отрешенность от земных дел.
Щелчок в телефонах и командирский голос:
- Доложить!
Начинается обязательный ритуал докладов:
- Штурман готов.
- Оператор готов.
- Радист готов.
- Стрелок готов.
Привычная наша молитва: люк закрыт, чека катапульты вывернута, кислород открыт. Это похоже на те минуты, когда музыканты рассаживаются в оркестровой яме и начинают настраивать свои инструменты.
- Запускаю.
Пригибая траву, по земле проносится мощный вздох, летит пыль, машина приседает.
Выруливаем. Аэродром остается за нами, на другом конце летного поля. В кромешной тьме можно различить только мигание огней да хвосты пламени из турбин. Теперь они кажутся голубыми.
- Левчук, что ведомые?
- Все самолеты группы рулят на старт.
Ревут на полном газу турбины. Машина покачивается, вибрирует всей обшивкой.
- В корме?
- Замечаний нет, командир. Выхлопа хорошие, закрылки во взлетном положении.
- Поехали.
Спущенный с тормозов бомбардировщик как бы нехотя трогается с места, бежит, набирая скорость, и, задрав нос, уходит в ночное небо.
На развороте я вижу, как взлетают самолеты нашей группы. Сейчас они наберут высоту и займут место в боевом порядке.
Темнота слева и справа от нас разорвана вспышками навигационных огней. Вот они подходят заправленные "под пробку" многотонные махины с полной бомбовой нагрузкой.
- Командир, - подает голос Левчук, - все ведомые на месте.
И, как выстрел, командирское:
- Курс?
Ну, двинули с богом.
Штурман докладывает о прохождении контрольного ориентира. Это большой город. Он прячется за черными хлопьями тумана, где-то на самом дне ночи - пульсирующая россыпь огней, росчерки улиц, мерцающая геометрия квадратов, точек, пунктиров.
Скоро меня опять зовет штурман:
- Радист! Пролет семьсот девятого.
- Уже?
- Да.
- Еще один отлетел.
Недовольный голос Хлызова:
- Что там отлетело, радист?
- Я говорю, командир, еще один город отлетел.
- Ну, ну… Говоруны.
Передавая на землю закодированные названия пунктов, я думаю о том, как перекраивается в полете школьная география: расстояния сжимаются, а города мелькают, как полустанки - один, другой, третий. Они словно пылят за нами.
Внизу залитые лунным светом зеркала озер. Горсть огоньков, точно опрокинули жаровню с горящими углями - деревушка или поселок.
СЕРГЕЙ ШАГУН
Вокзал у нас небольшой. Скромный такой вокзальчик, но для пары колонн место все же нашли. Да вот еще кренделей алебастровых на фасаде навешали. Для красоты, надо полагать. В зале ожидания и на перроне - никого. Вокзальную публику нынче представляю я один.
Когда сыграли тревогу, я, хоть и безлошадный, тоже подался на аэродром. В коридоре меня догнал Некрасов.
- Что делать? - спрашивает, а сам мнет в руках какую-то бумажонку. - В половине двенадцатого приезжает Ольга.
Вот оно что. Невеста пожаловала.
- Вы надолго?
- Кто его знает. Если пойдем на полный радиус, то вернемся не раньше двух ночи.
- Ладно, - говорю, - давай телеграмму. Я встречу Ольгу. Когда вас выпустят, нам, наверное, сыграют отбой.
Андрей вдруг заволновался, заторопился, зачастил:
- Отлично, Сергей. Хорошо. Ты ей объясни, расскажи. Вот телеграмма. Здесь все есть. Пятый вагон. - Он перевел дух. - Только не опоздай.
Приехавших немного: двое солдат, плотный мужичок в плаще и парусиновой кепке, каких я уже тысячу лет не видел, и, наконец, Ольга. Солдаты, как увидели армейскую машину, двинули к ней. Мужичок тоже исчез. Ольга осталась одна на пустом перроне. Не хотел бы я вот так приехать однажды. Подхожу, представился, от Андрея привет передал, рассказал, что к чему. Она благосклонно выслушала мои объяснения и коротко кивнула: "Идемте". Поправила сумку на плече и - ходу. Чемоданы же оставила мне. Решительная дама.
ОЛЕГ СМОЛЕНЦЕВ
Вот мы и добрались. Полигон уже слышно.
- Штурман, - спрашивает Хлызов, - сколько нам еще?
- До выхода на цель двенадцать минут.
Сейчас побросаем свое железо и - домой.
- Цель поражена!
Ай да Хлызов!
Они там в передней кабине, должно быть, собрались домой, бортпайки, наверное, распечатали и не знают еще, что нас перенацелили. Я сверяю радиограмму с таблицей кодов: выход на рубеж встречи с дозаправщиком… проход над точкой… эшелон…
Передаю приказ командиру.
- Ну да, - быстро отвечает Хлызов. - Этого надо было ожидать. Передавай: вводная принята, идем на задание.
Зовет ведомого. Капитан Арутюнов откликается мгновенно:
- Триста пятый на связи.
- Триста пятый, берите группу. Всем следовать прежним курсом. Я иду в "точку двадцать".
- Понял вас, триста первый. До встречи.
Мы остаемся одни.
- Штурман, - спрашивает Хлызов, - сколько мы теряем на новом маршруте?
- Около двух часов.
- Делов-то!..
Слева по курсу уже маячат огни самолета-дозаправщика. Они совсем близко.
- Внимание, экипаж! - говорит Хлызов. - Начинаем сцепку. Всем на внешнюю связь.
ВИКТОРИЯ ХЛЫЗОВА
Я просыпаюсь от голосов за стеной: Арутюнов прилетел. Быстрая скороговорка, короткие реплики, смех. Развеселились среди ночи. Ну и семейка!
Я набрасываю халат и иду к матери. Она сидит под лампой с вязаньем.
- Чего тебе не спится? - спрашиваю.
- Вот… - протягивает кофту. - Опять распустила рукав… Ложись-ка давай. Завтра экзамен.
- Зачет… Ма, Арутюнов прилетел.
- Ну и что.
- То есть, как это ну и что! Где же отец?
- Мало ли… Новое задание…
- Ну, мать, ты даешь! Прямо руководитель полетов…
АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
Я делаю несколько шагов на ватных ногах, облизываю пересохшие от кислорода губы и только тогда свободно вздыхаю. Воздух теплый, влажный…
Сырой бетон отражает огни переносок и мутный аккумуляторный свет из кабин.
Радист стягивает с головы шелковый подшлемник и подставляет лицо дождю.
Меня высаживают у гостиницы. Еще из кабины я успеваю заметить Ольгу. Она бежит по дорожке. Остановилась, глаза широко раскрыты, губы дрожат. Я вижу ее такой впервые.
- Оля, что с тобой? Оля…
- Ты, - сквозь слезы говорит Ольга. - Андрей… Что это было? Что было с вами?
- Все хорошо, Оля. Все хорошо. Обычный полет.
- Нет! - Ольга мотает головой. - Нет!
- Да, да, да.
Мы стоим обнявшись под дождем. Я чувствую, как вздрагивают ее плечи.
ИВАН ПЛОТНИКОВ
Мальчишка-шофер согласился подбросить меня до города, но пока я добрался до родильного отделения, весь вымок. Забежал в вестибюль, с куртки вода стекает, на паркете под сапогами грязная лужа. Дежурная сестра меня чуть не вытолкала.
- Да куда я тебя такого пущу! Спят! Час-то хоть какой знаешь? С ума вы все посходили, что ли? Тут вот тоже до тебя один ломился. В командировку, кричит, еду. Далеко, кричит. Дай на сына поглядеть. - Она зевнула, убрала под платок седую прядь. - Плотников, говоришь? Ну, погодь, погодь…
Минут через десять она вернулась.
- Слушай, Плотников: дочь у тебя. Три двести.
Я хотел спросить ее о Варе, но она не дала мне говорить:
- Спит твоя, спит. Завтра приходи.
Я опустился на широкий подоконник и снял фуражку. За окном в больничном саду шумел дождь. Умирать буду, а дождь этот вспомню.
СЕРГЕЙ ШАГУН
Кончается теплый дождь, который шел всю ночь. Над городком встает утро - прозрачное, золотистое, голубое. "Сверчок" вышел из ремонта, мы уже облетали его. Я жду встречи со своим самолетом и волнуюсь, как курсант перед первым самостоятельным вылетом. Я снова спрашиваю себя: что же все-таки н а ш е и что она н а ш а любовь? Эти мысли стали занимать меня с тех пор, как я начал приглядываться к Фомичу. Одна из его историй вдруг вспомнилась мне после той встречи у ограды мастерских.
"Когда я демобилизовался, - рассказывал Фомич, - отец уже работал на пасеке. Перебрался, где полегче - хвори одолели. Вот я и стал ему пособлять. Сижу, бывало, на пасеке, липы цветут, хорошо… Вдруг услышу самолет вдалеке, у меня сердце и заноет. Полк начну вспоминать, друзей-механиков… Привезут к нам кино, стучит возле клуба движок, и, веришь, вроде нет для меня ничего лучше его стука и запаха. А движок фыркнет - сладковатый такой дымок. Точно опять на самолете! А в деревне у нас рожь сеяли, лен, да вот еще пчелы были. Подал заявление на сверхсрочную…"
Ну хорошо, понятно: деревенский парень, удивление перед машиной, интерес к технике. А потом? Потом ведь ремесло. Тридцать лет на стоянке. Три десятка лет заправлять и чистить самолеты, провожать их, дожидаться, встречать, осматривать, снова провожать в полет и называть это авиацией…
- Почему же именно авиация? - спросил я у Фомича.
- Самолет, - сказал он, и тень прошла по его лицу, что-то мелькнуло в глазах, но он, видно, не умел объяснить то, что знал, и просто повторил: - Самолет.
Я представил себе деревню, тонущую в пчелином гуде, поля цветущего льна, молодого Фомича… Но почему самолет? Может, однажды мальчишкой его взяли в город, где он видел полеты планеристов. И, быть может, в этом городе продавали лотерейные билеты Осоавиахима или "Добролета", или какие еще тогда были организации. Я увидел луг с одуванчиками, пухлые облака, духовой оркестр и агитполеты оклеенного плакатами аэроплана. Очарованный зрелищем, Фомич стоял, должно быть, вместе с другими зеваками на краю летного поля и во все глаза глядел на военлетов…
Я подумал о себе, и моя собственная любовь к авиации показалась мне чужой и заемной. Чего же я хотел раньше и был ли искренним в своих желаниях? Когда я решил стать летчиком и почему потом держался за это решение?
А что же я терял, уходя из полка? И что любил? Себя? Свое? Свои успехи и удачи? Неужели они стали моей службой, жизнью, судьбой? Чем же я жил? Ну служил, летал, получал "отлично" по технике пилотирования… Служил, летал и все равно оставался недорослем. Так бы сказал дед.
Я что заметил? Вещи, о которых мы раньше думали вскользь, со временем обретают жесткую простоту и насущность. Вот так, видать, и взрослеешь.
Вчера была перекомиссия. "Что, лейтенант, - спросил меня подполковник Верес, - соскучились по своим мастодонтам? Все у вас в порядке. Прощайтесь с малой авиацией. Теперь пусть вас полковой врач пользует".
Вот и все. Я возвращаюсь в полк. Но думаю я сейчас не об этом. О другом я сейчас думаю.
Кончался теплый весенний дождь, блестела под утренним солнцем свежая листва, пахло землей, и в чисто вымытое небо улетали самолеты.
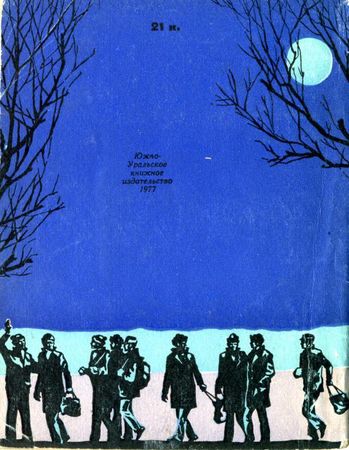
Примечания
1
Банка - отмель, опасная для судов.