– Что это, стихи?
– Ага. А вот еще. Сережка из второго подъезда их любит. Вот слушай. "Едут новоселы, морды невеселы, кто-то у кого-то слямзил чемодан…"
– М-да, поэзия, знаешь ли…
– Мама сказала, что смешно. Только здесь "морды" и еще "слямзил" некрасивые слова. Давай напишем и вычеркнем.
– Вычеркнем? Ну, попробуем… Слово "морда" можно заменить… скажем, на лицо, на физиономию…
– Нет.
– Что "нет"?
– Ску-учно…
– Да, ты права. Не очень удачная замена. Есть, конечно, много грубоватых слов, которыми можно, но…
– А "слямзил"?
– Слямзил? Так-так… Давай вместе подумаем. Украл, утащил, своровал…
– Нет. Ску-учно. Вот еще – укра-ал…
– Да-да, ты права, пожалуй. Скучноватая замена! А что делать?
– Ты подумай, а я порисую. Можно?
И, говоря это, она взобралась ко мне на колени, устроилась за столом удобнее, касаясь теплыми волосами моего подбородка, и я, боясь пошевелиться, с умилением вдыхал их голубиный запах, слышал, как она легонько дышала, грызла яблоко, наклонила голову к листу бумаги, водя карандашом, и это были нечастые, переворачивающие душу минуты ее доверчивости, ее общения со мной.
Оставшись одна, с превеликой старательностью и ожиданием похвалы изрисовала новые обои, вызвав этим неудовольствие мамы, которая, увидев на стенах художества, воскликнула:
– Эт-то еще что такое!
– Это цветочки, – ответила Катя, скромно покусывая карандаш.
– А эт-то что такое?
– Это кошечка…
В час заката мы шли с ней по улице.
– Небо настоящее, оно не заканчивается, – рассказывала она. – На нем нет крыши, а то бы мы задохнулись. Оно легкое. Просто рукой можно потрогать – и там ничего нет. Это кажется, что оно красное. А под землей – корка. Потом черви, потом вода. А дождик, знаешь, как идет?
– Как?
– Понимаешь, тучи. А в них такие дырочки. Как сетка. Мелкие.
– Значит, как у лейки?
– Правильно. А снег, знаешь, как?
– Нет.
– Зимнее небо – старое. И дождик старый. Это – снежинки. Им тепло, и они тают. Вот и дождик.
Я долго думал об этом ее размышлении. Она внезапно спросила:
– Папа, как называется, что вешается, падает и гремит? В ванной… Я видела у Сережки, когда руки мыла. Очень сильно упало…
– Корыто?
– Да, правильно.
Отец, мать, бабушка и я
Я видел, как начинался рассвет. Ночь беззвучно и таинственно уходила, и тихая, весенняя заря зажгла мокрые травы, запахло росистой сыростью. Раскрылась радостная синева с тончайшим, задорно легким, зеленовато-алым лучом, протянутым в высоту. Далеко в степи, за ее краем парил в воздухе купол старой часовни, будто висел между небом и землей, и на бугре мимо часовни виляла проселочная дорога, по которой на телеге уезжали отец и мать. А я стоял на окраине поселка, еще помня колючий, мужской, подбадривающий поцелуй отца и мягкие, дрожащие губы матери, и видел, как уже издали, с телеги она смотрела в мою сторону с грустной улыбкой.
Куда они уезжали? И почему оставляли меня одного на попечение бабушки? Для чего отец взял с собой наган, сунул винтовку под сено возле себя, и мне вспомнился обрывок ночного разговора отца с матерью о какой-то появившейся из-за Урала банде, которая не щадит ни бывших "краснюков", ни новых "сельсоветчиков".
Передо мной везде зеленела еще не согретая солнцем степь, и там, где недавно текли в высоту алые лучи, плыли в чистой синеве прозрачные дымки облаков. И я, продрогнув на утренним холодке, один в степи, как бы навсегда отделенный от матери и отца, впервые ощутил сиротливую заброшенность какой-то силой на землю – кто я? Почему я здесь? И для чего эта роса, трава, совсем исстаившие облака в небе? И куда плывут эти облака? И зачем я, как завороженный, смотрю туда, в сторону часовенки: там, на дороге уже нет ни телеги, ни отца, ни матери. Увижу ли я их еще?
Я вспоминаю, как медленно шел по улочке к бабушкину дому, утопая в пыли босыми ногами. Вставшее солнце до слез слепило мне глаза, мелькало в листве тополей.
В деревне, зажиточной и сытой, на берегу степной реки ласково дребезжали козы, время от времени грубо ревели быки, стоя по грудь в высокой траве. Бабушка, самая добрая женщина на белом свете, все прощавшая мне, всякий раз, когда я приходил с порванными штанами после лазания по чужим садам, хлопавшая себя по бокам и восклицавшая: "Ну, что уж, мои матушки! Будто собаки штаны на нем рвут, горе ты мое!" – напоила меня парным молоком, предупредила, чтобы со двора я носа не высовывал, сидел в доме или в садочке или на сеновале – и "никаких шалостей, потому как понятия должен иметь".
Я любил сеновал, весь пропитанный пряными медовыми запахами в немилосердную жару послеполуденного часа, любил пылание солнечного света в раскрытое окно чердака, где на балках нежно стонали голуби. Отсюда мне был виден внизу поросший травой дворик с колодцем, с негретой листвой сада, и часть улочки, пыльно-белой от зноя.
Бабушка следила за каждым моим шагом, и началась моя жизнь как в заточении – в избе, на чердаке, в садике – особенно после одной беззвездной сырой ночи, когда беспрестанно моросило, за холодком набегал ветер, капли, срываясь с деревьев, дробно стучали по крыше, и в этой мокрой беззвездности изредка доносились с реки крики диких гусей. Потом где-то очень далеко, в непроглядности степи прокатились один за другим винтовочные выстрелы, началась торопливая перестрелка, забили строчками пулеметные очереди – и вскоре все смолкло. И с внезапной тревогой я подумал об отце и матери, о какой-то банде, появившейся на хуторах, но тревога мелькнула колючей искоркой, вскользь – отец и мать тогда были для меня бессмертными, как это всем кажется в детстве.
Я слушал, как затихал шелест капель по крыше, в листве сада за окном сеновала, и опять меня встревожили крики перелетных птиц где-то в небесной тьме. Может, их вспугнули выстрелы? Куда они летели под дождем? И почему стреляли во время дождя?
Потом я услышал дремотное постанывание голубей над головой, они топтались на балках, осыпали терпкую пыль и ворковали во сне. Я уснул, а когда очнулся, на сеновале светлело, в окно из-за деревьев заглядывал огромный шар луны, распространяя ослепительное сияние на сеновал, на спящую безлюдную улочку, отсвечивающую стеклами изб, а внизу тропинки лунного света лежали в саду, в чаще меж стволами яблонь желтели теплые пятна, как медовые просеки. И почему-то не ворковали во сне голуби. Не кричали на перелете птицы, не шумели крыльями на плесах. Лунный свет господствовал всюду, омывал спящую степь, крыши деревни, дворик с колодцем, половину сеновала, где лежал я, очарованный тайной ночи, а вокруг звон сверчков создавал особый древний звук ночной тишины, который я люблю до сих пор.
Чувствовал ли я тогда смертельную опасность после выстрелов в степи? Что ощущал я? Было ощущение беспредельности ночи и вместе с тревогой торжество лунного мира и царство красоты, колдовски приоткрывшейся какого-то чуда своего бессмертия и бессмертия отца и матери. Я не в силах был представить гибельную угрозу, нависшую над самыми дорогими людьми, потому что был уверен, что загорелое, веселое, с темными бровями лицо отца, его старый френч, подпоясанный широким ремнем, вкусно пахнущим кожей, и ласковое, с мягкими карими глазами лицо красавицы матери всегда будут со мной, всю жизнь до последнего часа. Я даже не мог подумать, что их могли убить или ранить. Нечто неподвластное сознанию успокаивало, охраняло меня, как если бы сама природа околдовывала, говорила о жизни счастливой, долгой, вечной, такой же восторженной, как треск сверчков.
В какую-то секунду я услышал звук, похожий на слабый звон, и увидел в окно: капли то ли росы, то ли дождя обрываются с крыши сеновала и падают в полную бочку, покачивая на игривом серебряном волнении недозрелые опавшие сливы. Не знаю почему, долго я наблюдал взблески лунного света в воде этого круглого озерца, куда сверху равномерно падали капли. Мне показалось это чудесной игрой.
Потом в задымленном облаками небе встал свет. Одинокий шар луны исчез, меж побеленной листвы яблонь теперь поплыл светлый дым, а над ним, за садом восток наливался, теплел и скоро заалел, запылал неземным огнем, затопив перед моими глазами все, и я зажмурился, засмеялся от ласкающего прикосновения.
С дерзким весельем кричали в деревне петухи. Заворковали, завозились над головой голуби, топчась, постукивали когтями по балкам.
Кажется, сбавили свою восторженную песнь уставшие за ночь сверчки. Внизу, под сеновалом шумно вздыхала корова, с напором звенела струйка молока о ведро, невнятно доносился притворно ворчливый голос бабушки: "Да, что ты, Манюшка, чего ногой задрыгала, ровно пляшешь на ярмонке!.."
Я не понимал смысл этой фразы, но в ней было что-то доброе, уютное, домашнее, как запах парного молока, которое в большой кружке сейчас подаст мне снизу бабушка, скомандовав, чтобы я спустился к ней по лестнице: "По сторонам на улочку глянь, ежели около плетня никакого обалдуя нет, так и сигай ко мне. Ночью пальбу слышал, Господи спаси?" "Да!" – ответил я чересчур обрадовано, словно бы утверждая победный бой отряда отца с какой-то бандитской бандой в степи. "Ты чего это, внучек, сияешь, ровно меду наелся? – нарочито сурово спросила бабушка. – С какой такой стати, с какой причины? А ну, слазь оттуда, весельчак!.."
Смог ли я тогда рассказать бабушке, что и сам себе не способен был объяснить свое состояние, свое слияние с ночью, с живой, круглой вполнеба луной, глядевшей мне в глаза, над онемевшим садом, накрытым серебристо-сиреневой сетью, затопленным волшебным хором сверчков, в котором дивными алмазами сверкали падающие с крыши капли в бочку, объяснить, что я узнал запах лета, обещающего общую благодать и мне, и отцу, и матери, и бабушке, что я часть этого мира и буду видеть его во веки веков, как в то раннее утро.
Но в то же время все это утро я был в состоянии невесомой полудремы, мне как-то странно казалось, что все передо мной сейчас исчезнет, растает в воздухе, и я не увижу этого больше никогда.
Похожее ощущение я испытал однажды на севере уже будучи зрелым человеком, – неподвижная белая ночь, вымершая, без единого движения набережная, лодки, застывшие мачты, катера, впаянные в завороженную сном плоскую воду. Везде омертвело бело, вокруг ни одного человека, ни звука, ни голоса, – и мнилось, тот, другой, надземный белый свет покоя наплывал из высоты, как всеобъемлющее тихое забвение.
Прожив долгую жизнь и изъездив полмира с его красотами и декорациями, не объясню себе, почему я иногда все-таки вспоминал белые северные ночи, когда один шаг – и ты становишься невесомым. Но не забуду и серп луны среди пустоты неба в конце российского июля, перед вечером, в 11 часу, когда еще не сошел туманец, когда уже не бродит по крышам отблеск зари; не забуду и в начале августа величественную Венеру на юго-востоке, что царственно горит, все ярче разгорается к ночи; не забуду и голубиное перо, плавно летящее между тополями где-нибудь в замоскворецком переулке, стук первых капель летнего предливнего дождя по стеклу окон, когда на пыльных стеклах, очень похоже, отпечатываются следы кошачьих лапок.
Я хорошо помню то степное утро и приветливое пение птиц, должно быть сочиненное во сне для встречи солнца. А солнце вставало, но еще веяло в тени холодком, от травы, от цветов, еще не прогретых, и пахло горьковато и сладко ночной влагой. На камне я различил слюдяной след улитки, удивился и подумал, куда и зачем ей нужно ползти. Встав на колени, я долго смотрел, как деловито прожужжал к цветам шмель, сел на ромашку, завозился хоботком в желтом солнце ее венчика, почистил лапками хоботок, поднялся и загудел, перелетая на следующий цветок, и я поразился тому, что здесь на еще влажных лепестках спал, видимо, молоденький шмель, которому не хватило сил вечером добраться до родного гнезда. Сон его, вероятно, был вызван дневной усталостью, и он не пошевелился, когда рядом сел на цветок матерый шмель, вежливо не обративший на спящего никакого внимания. Мне тогда почудилось: они понимали друг друга.
То было счастливое утро, если самую жизнь без оговорок считать счастьем, и, быть может, отца и мать защитила та степная ночь и то утро, которые в моей жизни с такой силой не повторялись, ибо не было того детского упоения, к сожалению, не сохранившегося на всю жизнь.
Когда отец и мать вернулись из степи, пропахшие полынью, пылью и, как мне почудилось, порохом, оба довольные, отец сказал:
– Ну, как, сынка, скучал! А нам, брат, скучать некогда было! – И даже засмеялся от прилива родственного чувства. – Вот, видишь, все живы, здоровы. Все обошлось. И так будет до самой смерти, не робей, брат!
Я не ответил, обнял отца и мать, и заплакал, сознавая, что не скучая, предал их, не думал о них в ту ночь и в то утро, Я не мог даже представить, что их могут убить, отнять у меня, что я останусь один и никогда уже не увижу их.
Прошло много лет. И вот я один… Я давно похоронил отца и мать и доживаю отсчитанные судьбой дни, как бы сидя на кладбище среди могил родных и близких, которых уже нет. Я рассеянно вижу разросшиеся вдоль тропинок цветы, слышу гудение шмелей, но память моя не возвращает то благословенное утро… Я вспоминаю другое: голоса, жесты, манеру разговора, блеск глаз, согласие в спорах и неприязнь ушедших с земли, а просыпаясь по ночам, чувствую, как жмет, давит сердце, и никак не могу пересилить себя. Я думаю о не имеющей пощады природе, разрушающей человеческую жизнь, и думаю о красоте женских лиц, оставшихся волей художников в мировой живописи и мировой литературе, но уже целые века не существующих, как живое тепло.
Я верю, что это самая большая несправедливость, неподвластная никаким законам – закона с возможностью поправок?
Я помню милое, чуть-чуть удивленное лицо моего двенадцатилетнего брата, убитого грузовой машиной во время игры в футбол на мостовой Замоскворечья. Он, ловкий, отчаянный, хотел выхватить мяч из-под колеса машины – и не успел. Бедный мой брат, как я хотел бы отдать тебе большую часть своей жизни… Я помню в гробу задумчивое лицо матери с тонкими, совсем девичьими чертами, какие знал в своем детстве, как будто она помолодела на много лет, обретя прежнюю веселость, прежний смех, прежнюю доброту, не вязавшиеся с этим непоправимым словом "смерть".
Я помню серое без кровинки лицо отца, ставшее аристократически удлиненным, строгим, каким-то княжеским, с белоснежной сединой на висках, губы властно поджаты, нос чуточку благородно заострен – и впервые я подумал тогда, что отец, пожалуй, не из крестьянского рода. Он, неразлучный с матерью всю жизнь, сильный и смелый до крайности, не нашел воли примириться с уходом матери, стоически влюбленный в нее, тоскуя по ней, тайно плача по ночам, и вскоре ушел следом…
Их уже нет теперь, ушедших в другую юдоль, но они часто, в последние годы моей замкнутой жизни, часто снятся мне живые, родные, навеки мои…
Иногда, когда я просыпаюсь ночью: мне кажется, что кто-то находится в моей комнате, молчаливо сидит возле кровати и пристально смотрит на меня. Иногда я слышу еле уловимые шаги, чей-то вздох…
И я думаю, что это они… Кого я считал бессмертными, вместе с ними и себя, это они, кого сейчас так не хватает мне, кого я не ценил, как надо было, кого недостаточно любил в проклятой "суете и томлении духа". Да, это так.
Сегодня я очнулся от дикого крика над головой. В изголовье моей постели сидел отец в запыленном френче, без ремня, и страшно кричал, повернувшись к окну. Он кричал и махал рукой кому-то И я увидел за окном залитое слезами лицо моей матери. Она металась за стеклом, тоже кричала что-то, пытаясь пробиться в комнату. И чувствовал я безысходную любовь ее ко мне, к отцу и проснулся весь в ознобе.
За окном белел снег. И не было рыдающего лица матери, от которого у меня до сих пор перехватывало дыхание. Что значил этот сон-видение? Неужели я стал забывать их, и там, за звездами, они, скучая без меня, стали приходить ко мне?
Рассказы
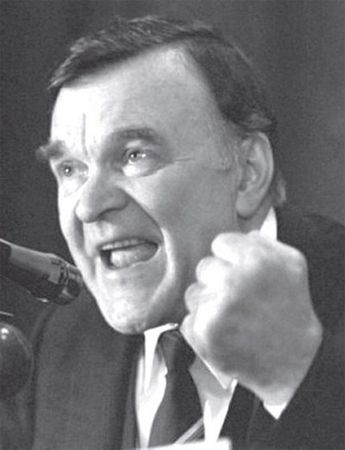
"С точки зрения тысячелетий…"
Рассказ сценариста
Мы сидели в баре аэропорта и не спеша пили кофе – посадку на берлинский самолет еще не объявляли. Осенний туман неподвижно висел за огромными стеклами, зал ожидания заполнялся пассажирами международных рейсов, все оживленнее становилось в баре, где теперь не было свободных столиков и все гуще пахло сигаретным дымом и кофе.
"В сущности, и это ожидание прекрасно", – думал я, с удовольствием оглядывая плащи, брошенные на спинки кресел, выбритые лица, которые выражали беззаботную освобожденность от всего привычного, в этом уже полузаграничном положении.
– Коньячку, а? Возьмем по пятьдесят для равновесия?
Мой попутчик режиссер Журавлев, с которым мы летели на кинофестиваль в Западный Берлин, решительно встал, шелковисто и, шурша искристого оттенка, костюмом, приглашая меня взглядом к мужскому единению, и я, конечно, охотно согласился.
"Слава Богу, что лечу с ним, – подумал я, наблюдая, как тот, прельстительно улыбаясь стюардессе, пьющей кофе у стойки, заказывал коньяк. – Не так уж плохо пожить бездумно несколько дней с ним в Берлине. Он чуткий в общении человек, и, кажется, за год работы над фильмом мы не надоели друг другу".
– Видели красотку? – Журавлев поставил рюмки на столик, сел в кресло, закинув ногу на ногу. – Летит в Париж, а посадку тоже не объявляют. Что ж, пока наши родные деньги не кончились, будем сидеть тут в обороне до полной победы. К полудню авось вылетим. Ну, за мягкий взлет и пуховую посадку!
Он со вкусом отпил глоток, потянулся к пачке сигарет на столике и с прежней игривостью поглядел в сторону хрупкой, как соломинка, стюардессы у стойки. Затягиваясь сигаретой, сказал:
– Кидаю мысль: как правило, почти все стюардессы на международных линиях – девочки перший класс. Обратите внимание на эту. Сдержанна, юна, отличная осанка. Ноги – как у богини. Носик вздернут. Не угадаешь – кто она: француженка, русская? Так сказать, мировой стандарт прекрасного пола, рекламируемый в иллюстрированных журналах. А для чего? Чтобы, поднявшись в лайнере на девять тысяч метров, я и вы чувствовали бы себя не оторванными от матушки-планеты, а как бы приближенными к земному и возможному раю. Название этому – разврат духа. Продаю мысль за… за… впрочем, отдаю даром! Бож-же ты мой! – неожиданно вскричал Журавлев, удивленный. – Вы смотрите, кто сюда пожаловал собственной персоной! Знаменитый Звягин, ваш бывший режиссер. Сам, живьем! И с какой-то актрисулей! Поразительно! Какое-то нашествие кинематографа на Шереметьево!
Журавлев, оживляясь, заерзал в кресле, иронически развел руками, и я увидел нестеснительно входившего в бар высокого седого человека с плащом через руку и саквояжем. Он шел в сопровождении белолицей девушки в заячьей шубке и пожилой женщины, крепконогой, с темными усиками, на ходу озабоченно поглядывавшей на ручные часы. Да, это был кинорежиссер Звягин, два года назад поставивший фильм по моему сценарию, после чего мы ни разу не встречались.