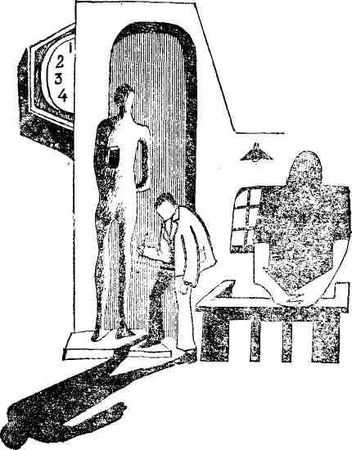По улице, заполненной шумной толпой, он вел ее, продираясь сквозь куртки, кожанки, сквозь очередь у Военторга. Только выйдя к Новоарбатскому телеграфу, который он видел когда-то строящимся, он осознал, как давно не ходил пешком по московским улицам.
Машины, метро, пересадки, корпуса, палаты, отекшие ноги со вспухшими венами, включенные приборы, мокрые ленты проявленных исследований, обходы, остановившиеся зрачки, дрожащие руки, парализованные тела и лица - вот из чего состояла его жизнь. Иногда, поздно вечером, он позволял себе сидеть за письменным столом. Ел он нерегулярно, а спал и вовсе ничего. Только вот урывками, в выходные и во время отпуска, он изображал из себя фотоглаз. И подкидывал кое-какие материалы мирмекологам.
Если бы удалось добыть фото зимнего подземного убежища рыжих! Недавно открыли тайну их перезимовки. Почему муравьи не замерзают? На глубине метра, сгрудившись в единый клубок, они держат необходимую температуру до наступления весны. Потом выползают. Последнее, что Олег успел проявить, - опыт с куполом. Еще без спичек. Просто срезанный купол. Затем восстановленный. Эти снимки разложены на диване. Когда Олег вернется в Москву, он все увеличит. Некоторые пошлет в другие страны - профессионалам. Авось пригодятся для обобщений.
Сейчас он окутан изоляционным потоком тишины. Как и тьма, она непроницаема. Лежишь, думаешь. Хоть бы капля упала или паровоз свистнул.
Вот чем сильны рыжие - сплоченностью! Каждый за всех, и все за каждого. Не то что мы, рыхлые индивидуумы, склонные к сомнениям и рефлексиям. Муравей умирает, отторженный от себе подобных, через пару суток. А мы вот - высшая организация мозга и прочее, мы - живем. И вдруг как надрезом ножа рассеклось в мозгу: "А живем ли?" Может, и люди погибают, выброшенные из общества. Не то чтобы физически, а в качестве человеческой особи. А? Может, поэтому они и нуждаются в п о с р е д н и к а х между ними и обществом? Таких, как он, Родька? Отторженные от себе подобных - болезнью, преступлением, бедой, - они умирают. И если с каждым днем людей все меньше вокруг, надо вешать табличку: "Смертельно". Вот так. Смертельно. Даже если кругом толпа, движение. Важно, чтобы ты был не один на один со своей бедой.
...И в тот зимний день на Калининском кругом было движение, люди, гудела вся улица. Было чертовски холодно. Мерзли руки, ноги. Тела прижимались друг к другу, как муравьи, поднимающие температуру гнезда. Согревая ее локоть, он думал: "Все названия здесь про тебя: "Чародейка", "Метелица", "Сирень", "Малахитовая шкатулка". Даже "Институт красоты".
Он никогда бы не догадался, что́ за всеми этими "Чародейками" и "Метелицами".
- Зайдем в "Метелицу", - сказал он наугад, остановившись у одного из домов.
Она подняла голову, не понимая. Он повторил, она покорно согласилась.
Уже войдя с холода в стекло полупустого кафе и сев за столик, он понял, что здесь подают только мороженое. Для морозного дня - "удачная" выдумка. Болван. Олег виновато глядел в меню, но отступать было некуда. Он заказал три ассорти "Сюрприз" и сок манго. Горячего бы кофе, но кофе не было.
Она не притронулась ни к чему.
Он облокотился на стол, максимально приблизившись к ней:
- Ну так как вам живется? Рассказывайте.
Следы слез еще блестели на замерзших щеках, но в тепле краска начала проступать сквозь обтянутые скулы.
- Она уехала, - безнадежно сказала Ирина Васильевна, отворачиваясь.
- Куда?
- Сейчас в Цахкадзор, потом, кажется, в Крым.
Он удивился:
- А экзамены?
Рука, вертевшая ножку фужера с соком, завибрировала.
- Она не будет сдавать.
- Как? - Он испугался. - Она не может танцевать?
- Нет, - сказала Ирина Васильевна, и уголки ее губ дрогнули. - Она здорова. Абсолютно.
- Ну? - он настойчиво теребил ее, все придвигаясь, не умея сообразить, что к чему.
- Она не х о ч е т больше танцевать.
Он не поверил.
- Но почему? Что-нибудь стряслось? - В голове проносились обрывки воспоминаний, ассоциаций. Помимо воли он ощутил в словах Ирины Васильевны что-то лично касающееся его, но не нащупывал прямой связи. - Почему? - повторил он.
- Ах, вы не понимаете, - оборвала она. - Да ведь это в ы все придумали. Это в а ш и х рук дело.
Он оторопел. Вот, значит, как.
- При чем здесь я? - усмехнулся он.
- Вам это смешно? Если для вас это р а з в л е ч е н и е, - она задохнулась, - смейтесь! Но не спрашивайте тогда, почему она уехала. Вы же ее всему этому научили: "характер", "выбор будущего"!
- Чепуха, ничему я ее не учил. Я ее лечил, - сказал он грустно.
- Не прикидывайтесь, - отчаянье исказило ее лицо, - систематически вы вбивали ей в голову бредовую мысль... Она стала игнорировать... мое мнение. Все эти ваши разговоры о с а м о с т о я т е л ь н о с т и - это подлость, подлость, и больше ничего.
Он встал.
- Извините, - машинально он поставил стул на место, - в мои обязанности врача не входит выслушивать оскорбления пациентов. Успокойтесь. Тогда, если угодно, продолжим.
Ему было нестерпимо жаль ее, но обида взяла верх. Как любил шутить Родька, и вправду "ни один добрый поступок не остается безнаказанным". Сматывать удочки, и скорее.
Она нагнала его. Повисла на руке. Обдала дыханием:
- В е р н и т е мне ее! Ради бога. - Она заглядывала ему в лицо снизу вверх, беспомощно, невероятно. Нагие до неприличия глаза гипнотизировали.
Он не двигался.
- Верните ее. Прошу вас. Что со мной будет?
Пальцы в перчатке легли на его плечо.
Он прикрыл веки. На мгновение он отбросил себя и эту женщину к Ялтинской бухте. Увидел, как они оба лежат там, скрывшись за камнем. Песчинки на тонкой коже ее локтей, шеи. Он осторожно снимает их ладонью.
Нет, его не купишь. Он высвободился.
- Это не зависит от меня. - Он усадил ее за столик. - Да скажите же толком, почему она уехала? И успокойтесь, - добавил он, - т а к невозможно говорить.
- На тренировки, - быстро и очень возбужденно зашептала Ирина Васильевна. - К спартакиаде. Бросила все для этого плавания.
Она скинула перчатки, одну, другую, он увидел, какие длинные у нее пальцы. Пианистка. Пальцы коснулись рта, она подышала на них.
- Тренер морочит ей голову. Готовит ее в какие-то там чемпионки. Боже, - она хрустнула пальцами, - моя дочь - пловчиха! - Зрачки ее блестели, как после хорошей дозы атропина. - Вдумайтесь только, бросить балет, театр, все, все. Ради плавания... - Она была как в лихорадке. - Единственная дочь. Талант. В мясорубке спорта. Он выбросит ее, пропустив через себя, как выбрасывает сотни. - Она придвинулась к нему. - Хотела проводить ее, так знаете, что она мне сказала: "Не ходи, мамочка, это нелепо". И теперь - мы в разрыве, глубоком. Непоправимом. Я узнаю о ней от родителей Риммы.
Олег не смотрел на нее. Медленно, как читаешь напечатанный вразрядку текст слов, выделенных из фразы, входило в его сознание, что теперь все. Конец близок. Точка.
- Подумайте, все годы я мечтала для нее о большом балете. Сколько сил, жертв. - Она продолжала, как помешанная: - Все бросить. Перед самыми экзаменами. И родители Риммы поддерживают все это. Что они понимают? Они же ничего не понимают.
Он вспомнил Римму. Разговор в его кабинете. Так вот, значит, как - пловчиха. "Лидер водной дорожки". Хм. Длинные ноги, взмах рук.
- Она уже установила какой-то там рекорд, - шептала Ирина Васильевна. - Кролем на спине. Я в этом ничего не смыслю. Вот... - Ирина Васильевна вынула из сумочки бумажки. "Стометровка, двести". - Она протянула вырезку. - Смотрите, в журнале "Физкультура и спорт" написано, - она развернула статью и показала подчеркнутое: "Плывущая Марина Шестопал напоминает мне ласточку в полете, а ее руки, вырывающиеся; из воды, подобны крыльям". - Вот. Вы только подумайте. Это все про нее. Летом - спартакиада. А если пойдет как-то особенно успешно, сказала мать Риммы, в сентябре они поедут на первенство Европы. В Будапешт.
"Ай да Марина! Отколола номер, - подумал он. - Прогнозируй после этого, психолог".
Теперь он размышлял обо всем происходящем с новым волнением и горечью. Неужели в судьбе Марины он сыграл именно эту роль. Он вспомнил, как она выбежала тогда из его кабинета. "Значит, вы от меня отказываетесь?" И ее взгляд. Прощай, Марина. Как говорится, счастливого плавания. Спорт - дело запойное.
- Вы напишете ей, обещаете? - Ирина Васильевна теребила его за рукав. - Она вас послушает и вернется, поверьте. Только мысль о вашем влиянии поддерживает меня. Только это. Я... уже не в силах больше т е р я т ь, - сказала она раздельно. - Это единственный шанс - Она протянула еще какую-то бумажку. - Вот их адрес. Скорее, пожалуйста, только поскорей.
Этого он не мог. Безнадежно, как в далекое море, уходила от него эта шлюпка. С каждым словом, с каждой просьбой. И где-то вдали, краешком глаза, отчетливее чем когда бы то ни было, он различал очертания того, что исчезало. Волосы, плечи, грудь.
И ничего нельзя было изменить. Выхода не было. Шлюпка уходила. А он был бессилен.
- Нет. Я не могу, - он не хотел обманывать. Он просто продолжал делать бесполезное, ступать в воронку, затягивающую его все дальше. - Как вы не понимаете.
- Боже, - широко распахнула она глаза, и в них заметался ужас. - Так все это правда, правда! Это ваша затея. Боже, - она суетливо собирала бумажки в сумочку, - зачем я здесь? С к е м я говорю...
Да. Вот оно. Пелена отчуждения, слепые зрачки.
- Вы забрали у меня дочь. Это все, чем я богата. - Слезы высохли, доверие исчезло. - Вы сделали ее несчастной. Больше у меня никого нет. Мне нечего больше терять... - повторила она и выбежала из кафе.
Он медленно пошел вслед. Видел, как официантка убирала с их столика. Нетронутое мороженое, соки.
...Он потер лоб. Так и есть. Одно и то же. Ничего не проходит. Все возвращается на круги своя. На круги памяти, словно это было вчера, словно на свете только она. Она. Все месяцы пролежавшая в Столбовой.
Он простаивал там часами, наблюдая, как ее ведут на прогулку. Он без конца говорил с врачами.
Когда он пришел в первый раз, она протянула руку и сказала:
- Я хочу дотронуться до твоих глаз. Я уже собралась. Машина подана. - Она заметалась. - Не знаю, во что одеться. Ты думаешь, это платье мне подойдет?
Он таращился на нее, молча, потерянно.
- Мне всегда шел бархат. - Она руками подбирала край легкой юбки. - Ах, как я счастлива. Вот сумочка.
Олег взял ее руку, подышал на пальцы.
- Пойдем.
- Хорошо, хорошо. Вот только не затопило бы этот двор... Вода... Смотрите, вон там. Еще далеко.
Да, да, конечно. Врачи ему говорили об этом.
Одна мания. Она ступает по краю водоема. Вода, вода. Не поскользнуться, чтоб не залило всю.
Он видел, как она расставляла ноги, и как потом нащупывала носком туфли, куда ступить. Ступала и сразу отдергивала.
Он готов был целовать ноги, следы на песке.
Однажды она закричала: "Он по горло в воде, смотрите, вытащите же его! Что вы стоите?"
Его увели.
Как-то он встретил в приемной Марину. Взрослую, цветущую. Ей пошла на пользу свобода. Так иногда молодой побег забирает все соки у матери-дерева, которое потом сохнет, болеет.
Он окликнул ее. Печальное, взрослое лицо вспыхнуло. Радость брызнула из глаз.
- Олег Петрович! - Она подбежала, заглянула в глаза, пританцовывая на месте. - Вы что... работали много? - Она словно покачивалась под его взглядом - загорелая, гибкая, с вспыхивающими искрами в глазах.
- Много. - Он удержал ее руки. - Сейчас никуда не уезжаешь? Побудь с мамой. Мне так важно, чтобы она поправилась.
Марина застыла, танец ног прекратился.
Он молча прошел в отделение, взял халат...
Экстраверты, циклотимия, Ирина Васильевна...
Месяца два назад ее выписали. Профессор сказал, что надеется - надолго.
___
...Теперь уже не стоило и пытаться. Он заставил себя встать. Распахнул окно. Рядом на диване белели проявленные снимки муравьиного купола. Память. Значит, товарищ академик Черниговский, если мы научимся управлять механизмом памяти, можно будет регулировать и воспоминания. Нажал кнопку - вспомнил. Нажал другую - забыл. З а б ы л. Не известное доселе человеку счастье - забыть. Забыть что-то. Вычеркнуть из памяти.
Остаться в кругу воспоминаний, которые берешь с собой. В дорогу. На весь, так сказать, данный тебе отрезок. Эдакий розовый сироп жизни. И вот ты в среде приятных обязанностей и забот, одержим только общечеловеческими целями. Не хочется? Тебе не это надо? Другое.
Налетели комары, он закрыл окно. В стекле забрезжил красный краешек рассвета. Поиграл, поиграл и пропал. Облако набежало.
Но все сразу не бывает. Даже у целенаправленного до идиотизма Родьки и то не бывает. И он тоже не одними абрикосами питался.
Олег вспомнил, как летом, месяца три спустя после процесса над Рыбиным, он встретил его в "Пирожковой" на углу Неглинной. Три месяца не виделись. Немыслимо. Но Олег уполз в свою конуру, зализывал раны после краха семейной жизни. И Родька почему-то не разыскал Олега, когда он съехал с прежней квартиры.
В "Пирожковой" он увидел Родьку за столом. Тот жевал кулебяку с капустой, прихлебывая из чашечки бульон. Рядом на очереди были котлеты, кисель и еще что-то. С недоумением Олег всматривался в знакомую фигуру, отмечая перемену в Родькином облике. Ел он механически, мало соображая, что делает.
Олег подошел к столику.
- Послушай, старик, - тронул он Родьку за плечо, - ты напоминаешь мне отощавшего с голодухи рысака, некогда бравшего призы на бегах.
Родька поднял глаза. Вяло обрадовался Олегу:
- Давненько я, брат, тебя не имел чести.
Потом он поинтересовался делами Олега, его коллегами и тем, как он реализовал в эти три месяца решения техсовета. О Вале он не спросил, словно никогда не имел о ней никакого понятия.
Олег рассказал ему о лаборатории, об экспериментах, которые начал проводить с новыми приборами. Объясняя, он увлекся, уже не боясь ступить в яркую полоску света, где его внутренний мир просматривался.
- А я, брат, долблю гранит с утра до утра. Новейшие методы судебной криминалистики. По волоску теперь преступника находят, во как. Что - негож?
- Давай, давай, - усмехнулся Олег. - В адвокатуре редки дистрофики. Зато в "шейке" поджарые смотрятся. - Он предложил Родьке сигарету: - Что у тебя сейчас? Кого выгораживаешь от праведного суда?
Родька помолчал. Челюсти перекатывались, спина гнулась.
- Знаешь, - сказал он, - раньше покупали все на деньги, еще раньше - на добычу, а наш брат все покупает на время. Во ч т о его вложишь - то с тобой и останется. Новый закон: ж и з н ь - н а в р е м я.
Олег прикрыл веки, как от ожога.
- Потратишь время на дело - будешь большой специалист, на женщину - будешь с женщиной, на режим, питание, ну или спорт - будешь здоров.
- А если на других?
- На других? - переспросил Родька. - Не будешь о д и н. Это как в сказке с тремя дорогами.
Олегу все еще хотелось выпутаться из тогдашнего, загладить невнимание к Родьке.
- Век буду помнить, - сказал он, - как здорово ты тогда выступил про Рыбина. Извини, что на рождение не пришел. Семейные обстоятельства.
Родион оторвал глаза от киселя.
- Выступил? Когда? - Он слабо улыбнулся. - Ах, ты о Рыбине? Да, здорово. Дали ему пять лет.
Он внимательно посмотрел на Олега:
- Ты разве не знаешь? О том вечере?
Олег помотал головой.
- Не отмеченный день рождения. Мама умерла. - Он болезненно сморщился. - В Кузьминках схоронили. Искали тебя. Пропал. - Родион устало потер виски. Потом поднялся. - Извини, у меня тут на углу свидание с одной потерпевшей.
Олег двинулся с ним к двери. Вот как. Родька без матери. Невероятно. То-то его вывернуло наизнанку. Уже у входа Родька обернулся:
- Зашел бы сегодня попозже. Поговорили?
Он выскочил, размахивая руками.
Олег чуть помедлил, затем вернулся в зал. Пирожки еще не кончились.
"В чистом поле огоньки, на сердце тревога... Повремени, повремени..."
...Наконец-то. Чуть улеглись нервишки... Приходят в норму. Когда же он лег снова? Отяжелели веки, мысли ползли и останавливались... Останавливались... Кончено.
Еще мелькнула мысль о том, как здорово будет завтра увидеть Родьку здесь, в деревне... Удивительно кричал петух. Столбовая... Муравьиная свалка... Папаня с вывороченной осколком рукой.
"Повремени, повремени... подожди немного..."
Он повернулся на бок, и горячая волна залила его.
___
Через час в окно постучала почтальонша. В тусклом, туманном стекле мелькнуло круглое личико, короткий жакет. Он выглянул.
Телеграмма. От Родиона. Вот тебе и на. Не едет... зовет срочно приехать на два дня!
Телеграмма когда давалась? - подумал он. - Ага, значит, есть еще время. Всего семь. Он оделся, свистнул Серую и вышел.
В лесу он сделал очередные снимки. Через полчаса на почте связался с Москвой.
Он не надеялся никого застать. Просто он заказал этот номер и назвал имя, чтобы произнести его вслух. Вытолкнуть из призрачного ночного бытия. Два месяца, как она выписалась. Осень начинается.
Его соединили. Раздались гудки.
"В чистом поле огоньки..." - вот привязалось.
- Алло, алло, - глухо отозвалось на другом конце провода. Незнакомый надтреснутый голос.
- Ирина Васильевна? Это Муравин. - Она дышала в трубку. - Завтра буду в Москве. Завтра. Хорошо?
- Надолго? - почему-то спросила она.
Он усмехнулся:
- Нет, дня на два. Транзитом. - В трубке затрещало, начало прерывать. - Завтра! Т р а н з и т о м, - испугался он. - Вы меня слышите? Слышите?! - закричал он отчаянно. - Буду завтра.
- Не слышу, - сказала она.
Когда они с собакой вернулись в лес, поднялся ветер. Оранжевые листья медленно кружились в последнем вздохе лета. Сквозь полуобнаженные деревья, как сквозь стропила дома, пробивалось солнце. Оно было теплое, спокойное. Муравьи повалили последнюю, одиннадцатую спичку и тянули ее подальше от купола.
1972 г.
ЗАЩИТА