6
По различным каналам мы запустили в прессу две информации о планах правительства, а именно: "Для того чтобы восстановить экономику и финансы, на несколько лет приостановить борьбу с японизацией", и "Для того чтобы сохранить суверенитет государства, решительно противодействовать японизации, даже если это вызовет замедление экономического роста".
Разумеется, мы рассчитывали, что средства массовой информации подхватят тему и развернут шумную, разнузданную дискуссию. Ведь это в традициях нашей страны.
Но к нашему удивлению, прошла неделя, вторая, а средства массовой информации так и не высказали ясно своего мнения.
Тоже - оппозиция.
Мямлили что-то невнятное, но никаких конкретных предложений не выдвигали.
Будучи в замешательстве, мы решили, что оттягивать дольше нельзя и начали проводить политику решительного противодействия японизации.
Тотчас пресса и оппозиция обрушились на нас с нападками. Народ их поддержал, и уже повсюду в стране начали проводить демонстрации протеста под лозунгами: "Правительство плодит безработных!", "Крупный капитал рвется к власти!"
Поскольку протесты нарастали, мы через три месяца сменили политику и стали молчаливо допускать известную степень японизации. (В немалой степени это отражало мнение Дюгана.)
Но мы опять встретили яростное сопротивление. Если бы на сей раз на нас ополчились военные круги и ультраправые, было бы понятно. Но с протестами выступали те же самые люди, которые прежде отстаивали противоположную позицию.
Что же все-таки происходит?
Мы были в смятении.
Мы оказались не в состоянии проводить вообще какую бы то ни было политику.
Тотчас оппозиция и пресса успокоились.
Пользуясь моментом, мы объявили о новом политическом курсе, и сразу же возобновились яростные протесты.
Отказались от какой бы то ни было политики, и вновь тишина. Мы больше не могли делать вид, что не замечаем…
Пресса и оппозиция - полностью японизировались.
Как выразить охватившее нас отчаяние?
Однако предаваться праздному отчаянию у нас не было времени.
Дело в том, что на носу были промежуточные выборы.
Оппозиционная Народная партия в чрезвычайно резких выражениях продолжала нападать на правящую Партию мира и согласия. Пресса в большинстве своем была с ними заодно, мы остались буквально в полной изоляции, без какой-либо поддержки.
По мере усиления предвыборной борьбы эта тенденция стремительно нарастала, и в день голосования мы были в таком загоне, что уже готовились потерпеть историческое поражение. В нижней палате наберем меньше ста мест. В верхней палате, вероятно, не сможем удержать и десяти… Да и на губернаторских выборах у нас нигде не было уверенности в победе. Администрация президента напоминала сборище смертников, ожидающих приведения в действие приговора.
Госсекретарь Беллоу, мучаясь желудком, ходил как в воду опущенный, министр финансов Игл из-за аритмии находился под присмотром врача. Министр торговли Пьюзо не поднимал глаз, а руководитель избирательного штаба Майк Дюган вообще три дня не подавал о себе никаких вестей.
Президент, разумеется, бодрился, но выглядел постаревшим на десяток лет.
Однако результаты выборов, ставшие известными на следующий день, наполнили нас ликованием.
Победа! Вопреки ожиданиям, нами была одержана историческая победа! В нижней палате мы отхватили три пятых мест, в верхней - две трети, на губернаторских выборах наши кандидаты завоевали больше половины постов.
На заседании кабинета президент расплывался в довольной улыбке, а корреспондентам заявил: "Народ - здоров!"
7
Но с нашей победой положение в стране не изменилось ни на йоту. Непосредственно после своего сокрушительного провала оппозиция говорила: "Мы должны извлечь уроки", "Будем бороться за здоровые демократические ценности", но им хватило недели, чтобы напрочь забыть все свои обещания и начать с еще большим остервенением нападать на любое действие правительства. Их речь запестрила словами "решительный отпор", "полная обструкция", "нет и еще раз нет".
Им вторила пресса, безудержная в своих нападках на правительство.
Наше правительство заклеймили как "бездействующее, пассивное, более того - недееспособное", называли "самым худшим за всю историю". Парламентского секретаря Партии мира и согласия Джона Ховарда совершенно огульно объявили закулисным руководителем, навесив на него кличку "серый кардинал".
Одновременно поднялись крики, что администрация президента - не более чем марионетка в руках Ховарда.
В истории нашей страны никогда еще не было ничего подобного.
Растерявшись перед неслыханными нападками, мы, однако, были искренне убеждены, что народ на нашей стороне.
Но довольно скоро наступил день, когда это заблуждение рассеялось.
Три крупнейших телекомпании опубликовали результаты опроса общественного мнения о доверии президенту.
Тринадцать процентов…
Это были самые позорные цифры со времен администрации Никсона.
Как только стали известны результаты опроса, президент принял решение подать в отставку.
Никто из высших чинов его не удерживал.
Все были готовы единодушно подать в отставку.
Президент попросил меня объявить об этом в шесть часов на традиционном брифинге для журналистов.
Я набросал текст заявления.
За все время моей работы в администрации у меня не было более тяжелой обязанности.
Однако заявление об отставке было в срочном порядке отозвано.
Дело в том, что открылись новые, совершенно удивительные факты. А именно, уровень доверия к вице-президенту Моргану был еще ниже, чем у президента, всего лишь семь процентов. И это еще не все. Поддерживающих формирование правительства оппозиционной Народной партией набралось еще меньше - каких-то четыре процента.
В анкетах были приведены мнения некоторых граждан, большинство из которых сводилось к следующим.
"В нынешнем правительстве сидят дураки, но оппозиция-то ничем не лучше. Я не доверяю ни тем, ни другим, думаю нынешнее правительство все-таки предпочтительнее, чем оппозиция" (служащий фирмы, пятьдесят лет).
"Политика? Плевать я хотел. Все политики давно прогнили. Совесть совсем потеряли. Подумали бы хоть немного о нас!" (разнорабочий, двадцать лет).
"Мне не нравится родимое пятно на лице президента" (служащая, двадцать семь лет).
"Оказывается, президент даже не знает, почем редька! Тут как-то в интервью сказанул, что шестьдесят три цента. Разве купишь сейчас редьку дешевле семидесяти центов? Как может управлять государством человек, не знающий даже, сколько стоит редька?" (домохозяйка, тридцать девять лет).
"Да никакой разницы, что президент, что оппозиция. Считаю, что пресса тоже во многом виновата: покричат, покричат и умолкнут. Если так пойдет дальше, народ вообще разуверится в политике. Хватит пренебрегать народом!" (управляющий фирмы, шестьдесят лет).
Ознакомившись с опросом, президент понял, что в нашем народе произошли чудовищные изменения. Он решил, что оставить сейчас пост президента значило бы изменить своему долгу.
Президент немедленно созвал японоведов и попросил высказаться по поводу опроса.
Ответ был единодушным.
"Господин президент, нет никакого сомнения. Это типичная политическая психология японцев".
На следующий день на заседании кабинета вступительная речь президента была исполнена неподдельным трагизмом и пафосом. Вот что он сказал:
"Друзья! Мы с вами сейчас остались в полном одиночестве. Все то прекрасное, что от самого основания государства было заложено в характере нашего народа, повержено в прах. Но мы не имеем права отказываться от своего долга. Что бы ни произошло с народом, что бы ни произошло с прессой, мы будем следовать избранному пути, как велит нам долг. Будущие историки вынесут свой вердикт. Через сто лет, может быть, через тысячу… Это не важно".
Вдохновленные его словами, мы вернулись к своим обязанностям.
Но, увы, нашего мужества хватило ненадолго.
Вскоре нам стало известно о невероятной коррупции, поразившей ряды нашей Партии мира и согласия.
Депутаты ушли с головой в дележ прибылей от государственных концессий. Государственные предприятия в мгновение ока стали их удельной вотчиной. Они с гордостью именовали это "депутатским подрядом", и сыпали такими фразами: "Здравоохранение - мой кусок пирога", "Пусть только эта строительная фирма поартачится, сто лет будут сидеть на голодном пайке!" "Телекоммуникации - вотчина моего босса! Пусть президент не сует свой нос, куда не следует!"
Довольно скоро нижняя палата перешла под контроль фракции, образованной этими "подрядными" депутатами, верхняя палата не замедлила последовать их примеру.
Из-за этого властные полномочия президента резко сократились, и, как "предупреждала" пресса, он сделался марионеткой в руках лидера парламентской фракции.
Вслед за этим, высшие правительственные чиновники один за другим потеряли свои посты (впрочем, теперь это на японский манер называлось "провести реорганизацию").
На их место пришли рядовые, совершенно недееспособные депутаты, известные лишь своим долгим сидением в стенах парламента. А для того, чтобы как можно больше депутатов могли побыть в высоком ранге, срок руководителей министерств был ограничен от полугода до года, и самых тупоголовых, ни на что не способных депутатов направляли туда в порядке очереди.
Так что к концу президентского срока в его команде ни осталось ни одного из первоначально назначенных сотрудников. (Мне тоже полгода назад пришлось уступить свое место заднескамеечнику из Партии мира и согласия. Я не высказывал особых возражений. В тот момент я подсознательно руководствовался японской поговоркой "Плетью обуха не перешибешь".)
Президент во всем прислушивался к мнению партии, с лица его не сходило раболепное выражение. Когда пришел срок оставить свой пост, он, учтиво склонив голову, произнес следующую маловразумительную речь:
"Власть - это то, что мы торжественно наследуем от начальствовавших верховных правителей, издревле трудившихся молча, сжав зубы, в поте лица своего. При всей моей неспособности, я дерзнул на протяжении восьми лет нести на себе тягостное бремя президентства, в избытке благодарности, навек запечатленной в моем сердце, добросовестно ступая шаг за шагом, внимательно прислушиваясь к мнению окружающих, какой бы пост они ни занимали, старательно исполнял все, что исполнить мне надлежало, в соответствии с чаяниями народа…"
Таким образом, с лица земли исчез последний неяпонец, и мы вступили в новую, головокружительную эпоху. В эпоху, когда в мире, кроме японцев, никого не осталось…
Nihonkoku no gyakushu by Kyoji Kobayashi
Copyright © 1996 by Kyoji Kobayashi
© Дмитрий Рагозин, перевод на русский язык, 2001
хисаки мацуура
причуды жизни
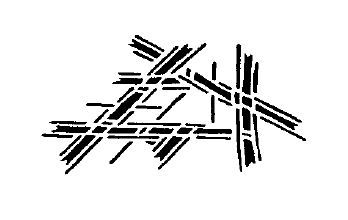
Было это лет десять назад. Энокида совсем не помнит, как он оказался в том месте. Поздно вечером от станции Ниппори ему надо было идти к станции Угуисудани, расположенной на линии железной дороги Яманотэ; по дороге он заглянул в странного вида кофейню. С маленького пустыря у шоссе, ведущего в Иридани, он свернул направо; там вплотную к железнодорожным путям теснилось множество построенных десятки лет назад развалюх. Чтобы скрасить унылый вид, перед некоторыми домами стояли кадки с деревцами, но все равно оставалось ощущение, что жители квартала с трудом доживали там свои дни в ожидании неизбежного сноса домов. Оказавшись в столь неприглядном месте, Энокида несколько растерялся, но, когда за извилистой тропинкой его взору открылся маленький скверик с крохотными качелями и детской горкой, на душе немного потеплело.
На дальней стороне скверика стоял неказистый домик с вывеской "Кофейня "Аллея"". Вспоминая об этом позже, Энокида никак не мог взять в толк, что побудило его толкнуть открывающуюся в обе стороны замызганную стеклянную дверь, как вообще он мог войти в сомнительного вида заведение почти в полночный час. То ли начинавшийся дождь загнал его в эту кофейню, то ли хмель еще не выветрился, а может, просто захотелось выпить кофе. Как бы то ни было, Энокида открыл дверь и заглянул вовнутрь: безрадостное ощущение вызывали стоявшие почти вплотную друг к другу три столика, каждый на двоих, и убогое убранство - репродукции безвкусных картин на белесых стенах и дешевая утварь. К тому же в этом тесном заведении не было ни одного клиента, и Энокиде тут же захотелось повернуться и уйти. Но все же он вошел; возможно, на него благотворно подействовала необычайная мелодичность голоса пожилой женщины, которая поприветствовала его не слишком радушно, но и не холодно.
- Можно войти? Поздновато, правда…
- Проходите, пожалуйста. - Женщина неопределенным жестом указала на один из столиков. Увидев, что посетитель замешкался, она пробормотала: - У нас и второй этаж есть.
"Надо же, а я и не заметил", - подумал про себя Энокида.
Действительно, от самой двери наверх вела узкая крутая лесенка. Рядом с пожилой женщиной стояла, прижав к груди круглый поднос, девица, судя по возрасту - ее дочь. Своим безразличным видом она показывала, что Энокида прервал их разговор. Он почувствовал себя посторонним в этой маленькой кофейне, где две женщины вели свою, не для чужих ушей, беседу.
- Ладно, пойду на второй этаж, - бормоча это, он стал подниматься по лесенке.
- Извините, обувь снять забыли…
"А, туда надо без обуви… Вообще, куда меня занесло? - подумал Энокида. - Маленькая забегаловка, или что посолиднее? Впрочем, на двери написано "Кофейня"."
Чувствуя что-то вроде досады, он все же снял обувь и, прежде чем подняться на второй этаж, заказал именно кофе. Убедившись, что женщина поняла его, о чем свидетельствовал кивок головой, он взошел на ступеньки скрипучей, пропахшей плесенью лестницы.
Наверху лампочка без абажура еле освещала узкий коридорчик, который заканчивался пожелтевшей от времени раздвижной стеной-перегородкой. Поскольку рядом, вероятно, был туалет, идти, наверное, следовало, за перегородку. Помещение ничем не отличалось от самого обыкновенного жилища. За перегородкой оказалась приблизительно десятиметровая комната в традиционном японском стиле - в ней стоял маленький комод, в углу валялось несколько подушек для сидения, к окну был придвинут низенький столик с пепельницей. Испытывая недоумение (черт-те куда занесло) пополам с апатией (будь что будет!), Энокида поднес к столику подушки, скрестив ноги сел на них, облокотился о стол и закурил. Тут же послышалось скрипенье лестницы, шаги, после чего с невозмутимым видом вошла молодая подавальщица, неся кофе и сахар. Пробормотав формальное "Приятного аппетита", она удалилась вниз по скрипучей лестнице.
Почти час провел Энокида в этой странной комнате. Впрочем, странность ее заключалась единственно в том, что она была слишком обычная - миллионы японцев спят, едят в таких комнатах: ни малейшего намека на "заведение", "кофейню". Так и осталось невдомек Энокиде, как случилось, что он сидит тут и прихлебывает кофе. На стенах висели календари с фотопейзажами, несколько хрупких безделушек украшали комод, на нем же стояли в рамочках фотографии: улыбающиеся женщины-подавальщицы, которых он встретил внизу, а также дети и старики. Притолоку украшала стрела от лука "Хама" с надписью "Храм Симоя". Приоткрыв грязное, с обветшавшей рамой окно, можно было увидеть тот самый скверик, на котором старшеклассники - мальчики и девочки, - не обращая внимания на дождь, в сандалиях на босу ногу катались на качелях. Двое, лениво раскачиваясь, вели неторопливый беззаботный разговор. Солнце давным-давно село, но влажная духота конца лета не спадала и в этот час. Неподалеку, за домами и сквером, проходила кольцевая линия электрички Яманотэсэн и связывающая Токио с Йокогамой линия Кэйхин - Тохоку, по которым каждые несколько минут мимо маленькой станции с грохотом проносились поезда.
Энокида вдруг ощутил полный покой, будто забрел случайно в чайную комнату какого-то дома и знай попыхивает там сигаретой. Неожиданное сравнение пришло ему в голову: он, как воришка, ночью пробрался в чужой дом, совершил задуманное, потом, убедившись, что хозяева крепко спят, уселся себе в укромной комнате и не спеша закурил в свое удовольствие. "Впрочем, - ухмыльнулся Энокида, - будь он вор, вряд ли был бы так безмятежен". Вспомнилась давняя история: умер кто-то из дальних родственников, и ему вместе с другими людьми пришлось провести ночь у гроба покойника в доме, куда он попал впервые. Захотев в туалет, он прошел в дальний конец огромного дома и, отодвинув легкую перегородку, очутился в полутемной заброшенной комнате, вдали от гостиной, где подавали суси и сакэ и откуда едва слышно доносились людские голоса. Радуясь своему одиночеству, Энокида приятно проводил время, куря сигарету за сигаретой. Из-за стенки-окна просматривался двор, еще полностью погруженный во тьму, однако напрягши зрение, можно было различить деревья, кусты, неясные контуры камней - все это дарило покой и отдохновение. Лунный свет, заливавший этот пейзаж, наполнил его грудь неизъяснимой радостью. Вдруг возникло странное чувство, что всем облаченным в черное людям, собравшимся в этом доме, и ему в том числе, нет никакого дела до покойника. Мягкому лунному свету, обволакивавшему землю, безразличны были и усопшие, и живые. То, что Энокиду не слишком тронула чужая смерть, возможно объяснялось тем, что покойника при жизни он почти не знал, никоим образом не был с ним связан. Но так или иначе, в безразличии луны и в собственном безразличии Энокида не находил ни холодности, ни жестокости; было нечто другое - ощущение свежести наполняло душу.