Эстафету мужества и борьбы передают юным и коммунисты-интернационалисты из повести "Товарищ Ганс" - передают всей своей жизнью, подвигом во имя победы над фашизмом. В повести есть характерный эпизод: Санька Рымарев восхищен "небесным даром" - марками на конверте, пришедшем из захваченной гитлеровцами Австрии, он мечтает заполучить эти редкие марки в свою коллекцию… Но когда в конверте оказывается фотография, на которой изображен "молодчик" со свастикой на рукаве, - марки для мальчика теряют всякую привлекательность.
Вспомним еще один эпизод: с какой бескомпромиссностью судят члены партийной ячейки Карла Рауша, решившего, что и с фашистами "можно жить в мире". Когда Рауш уезжает в фашистскую Германию, Санька Рымарев спрашивает: "А если там узнают, что он коммунист?" И слышит в ответ: "А он больше не коммунист. Мы его исключили. Вчера…" Между этими двумя эпизодами - глубокая, внутренняя связь, смысл которой в том, что молодое поколение учится у своих отцов жить и бороться, сердцем и умом принимает то, что дорого старшим.
Два противоположных типа партийных работников показаны в романе "Скудный материк". Один из них - первый секретарь Усть-Лыжского райкома партии Егор Алексеевич Терентьев, другой - Василий Михайлович Шишкин, второй секретарь райкома. У Терентьева нет "поплавка" на груди, ему не удалось получить высшее образование, но у него большой практический опыт партийной работы, он хорошо знает нужды района, людей, доверяет им, постоянно думает о них, помогает им. Шишкин же, что называется, из молодых, да ранний, карьерист, верхогляд, порой за бумажками не видящий живых людей. Терентьев мучительно размышляет о поведении Шишкина, стремится предотвратить его опрометчивые либо сознательные дурные "инициативы". Далеко не всегда это Терентьеву удается. И все же неизбежен, неотвратим конец таких, как Шишкин - на выборах райкома его единодушно "прокатывают на вороных".
…В "Мальчиках" мы читаем, что у певцов есть одно важное, характерное качество голоса - его "летучесть", "полетность". Думается, что это профессионально-образное определение опять-таки может быть отнесено не только к голосу, но и к душевному строю лучших героев Рекемчука. И если "летучесть" голоса у многих мальчиков из московского хора пропадает - голос остается только у "избранников судьбы", у одного на тысячу, - то "полетность" души оказывается качеством более устойчивым и, конечно же, не менее ценным.
Многие герои писателя живут духовно полноценной, интересной жизнью, в ней есть труд и любовь, радость вдохновения и первооткрытия. "Впервые" - это своеобразный опознавательный знак новизны мироощущения, открытия и переоткрытия жизни, приобщения к самим ее основам - вообще довольно часто возникает на страницах произведений Рекемчука, нередко применительно к самым непохожим ситуациям, к самым различным людям.
Открытие мира и открытие себя в мире особенно интенсивно происходит в детские и юношеские годы.
Писатель охотно и часто, как мы знаем, обращается к этой важной поре человеческой жизни - когда закладывается фундамент характера, формируется нравственная и социальная ценность человека.
Юным предстоит найти свое место в жизни, ответить не только на вопрос "кем быть", но и "каким быть". За поиском ответов на эти вопросы - напряженная, многотрудная, хотя порой и невидимая работа ума, сердца, души героя. Работа, которая совершается тем интенсивнее, оказывается тем плодотворнее, чем глубже этот герой включается в орбиту мира взрослых, его непридуманных забот и проблем, порой запутанных коллизий, сложных человеческих отношений.
Всю эту работу можно считать с лихвой окупившейся, если подросток, юноша входит в большую жизнь не растратившим своих благородных порывов, обогащенным духовно и эмоционально, восприимчивым к добру и справедливости, не только готовым к гражданскому действию, но и жаждущим его. Именно таковы юные герои повестей "Товарищ Ганс" и "Мальчики". Для этих героев очень многое в жизни - впервые.
Санька Рымарев ("Товарищ Ганс") впервые переезжает на новую квартиру, впервые попадает на военный парад. Впервые ощущает он и "непустячные обиды", и острую потребность в серьезном разговоре со взрослыми, и непонимание, почему те не хотят отвечать на некоторые важные вопросы. На такой, например: "правильная" ли была кровь, которую он пролил в драке с обидчиками Тани Якимовой? И хорошо, что ответы на эти вопросы герои ищут и находят нередко сами, - так же, как и сами принимают серьезные решения.
У Жени Прохорова есть друзья, хорошие наставники, и все же только напряженная внутренняя работа ума, сердца, воли помогает ему обрести веру в себя, определить свой дальнейший путь. Действовать при этом приходится методом проб и ошибок, иногда это крайне рискованный и болезненный метод, но другого пути у героев нет. Нет готовых рецептов - как жить, - да никто из них и не согласился бы принять такой рецепт. Все впереди, а значит - впервые, не только у Саньки Рымарева, курсанта военной школы, и Жени Прохорова, поступающего в консерваторию. Все впереди и у героя ранней повести, отслужившего в армии комсомольца Алексея Донцова, и у многих персонажей писателя.
Способность видеть мир как бы заново присуща и Ивану Еремееву. Он прожил немалую и нелегкую жизнь, ему знакома горечь несправедливости. Но эта горечь не переросла у Еремеева во вселенскую обиду, не опустились его руки - руки труженика, человека, знающего цену своей рабочей профессии. И он как бы заново обживает мир, в который вернулся, испытывает чувство обновления.
Первооткрытие и переоткрытие мира - не только ощущение, хорошо знакомое героям, но и творческий принцип самого писателя. Он видит и открывает в привычном, порой примелькавшемся - черты необычного, того, что полно глубокого смысла и значения, что позволяет чувствовать постоянную новизну бытия. И, пожалуй, самое важное в этом творческом принципе - умение вовлечь читателя в этот нелегкий и радостный процесс, умение, которое многого стоит.
* * *
Творческая зрелость приходит не сразу и у каждого по-своему. В ранних вещах Рекемчука мы встречаемся с элементами некоторой зарисовочности, эскизности, в них далеко не всегда чувствуется глубина авторского замысла, выверенность характеристик, ассоциаций, отдельных образов. Так, в рассказе "Останутся кедры" рассуждения автора о влиянии климата гор Сванетии на человека сначала воспринимается как поэтическая метафора: "Здесь характер приобретает утонченность клинка и отвердевает. А мысль приучается к спокойному парению…" Но далее эта метафора переводится автором в реальный план и явно утрачивает не только поэтичность, но и, так сказать, свою собственно познавательную ценность: "Кстати, покинув затем горы, человек обретает свою прежнюю походку, постановку головы, характер и способ мышления".
В повести "Время летних отпусков" - в целом удачной, интересной, свежей - излишне усложнена и перегружена "психологизмом" сюжетная линия Панышко - Гореловы, неоправданно легко разрешается конфликт главной героини с Ульяшевым.
Нет ничего удивительного в том, что в ранних произведениях писателя встречаются какие-то огрехи - эти неизбежные спутники литературной молодости. Важнее и примечательнее, что подобных издержек значительно меньше, скажем, уже в "Молодо-зелено" и особенно в "Товарище Гансе", "Мальчиках", "Скудном материке", в новых его рассказах. Конечно же, речь опять-таки идет не о том, что эти произведения вообще неуязвимы для критики, но о том, что писатель завидно быстро прошел пору ученичества и вступил в пору зрелости. Это пора глубоких раздумий о жизни, о человеке, времени, пора более интенсивных творческих поисков, зрелых художественных решений.
"Я хочу подняться к истокам" - слова героя одного из рассказов Рекемчука. "Подняться к истокам" - это и девиз самого писателя, означающий стремление не ограничиваться снятием поверхностного слоя жизни, а идти вглубь, исследовать те существенные процессы, которые происходят в обществе, показывать те благотворные перемены, благодаря которым, как отмечает один из героев "выпрямляются характеры, свежеет мысль, обретают цену достоинство и честь…".
И нет ничего странного в том, что понятия "подниматься к истокам" и "идти вглубь" оказываются синонимичными. При всей внешней их противонаправленности, они выражают стремление проникнуть в самую суть изображаемых явлений, характеров, конфликтов, постичь основы жизни народной.
А. Рекемчука, как и других писателей, волнует важная проблема его профессии: каким путем должно идти постижение жизни, что такое правда в искусстве, в чем порой кроется причина тех или иных издержек?
Пережитое и сопережитое - вот, по мнению самого писателя, два пути, два основных русла, по которым материал действительности "перетекает" в художественное произведение. Движение по этим каналам подчинено своим особым законам, но есть между ними и нечто общее, объединяющее - их должна постоянно питать и обновлять вечная река жизни.
Нередко можно услышать: в этом произведении все, как в жизни. И действительно, нет большей похвалы для писателя, чем отметить верность созданных им образов жизненной правде, реальным характерам.
"…Согласитесь, это профанация, когда тайгу снимают в Звенигороде, а Баренцево море - в Ялте…" - говорит кинорежиссер Одеянов ("Скудный материк"), и, надо думать, автор полностью согласен со своим героем. Да, читатель не поверит большому, если писатель сфальшивит в малом, это аксиома. И все же только правдоподобие не исчерпывает в полной мере ни целей искусства, ни самого существа творческого процесса - им как бы невольно исключается творческая активность, воля художника, его талант. При таком "исключении" речь может идти лишь о хороших или плохих копиях действительности - не больше. Подлинно же художественный мир жизнеподобен и неповторим одновременно. Именно таков художественный мир произведений А. Рекемчука.
В его книгах просторно, в них много воздуха, "лесá" его произведений почти не ощущаются, они не мешают движению внутри композиционного времени и пространства.
Проза требует мыслей, сказал поэт. Проза Рекемчука насыщена мыслями. Писателю важно донести их до читателя, вызвать на ответные размышления. Для этого он добивается простоты и ясности во всем - в манере изложения, языке, композиции, образах, жестах. Простоты, которая не только не исключает, но предполагает значительность, глубину и объемность изображаемого.
А. Рекемчук обладает ценным даром одухотворять природу, вещи, труд. Особенно труд творческий, раскрывающий духовную красоту и силу человека, свидетельствующий о счастливейшей и желанной гармонии дела и личности.
Вот разговор двух героев из повести "Время летних отпусков" о скважине: "Отдыхает?" - спрашивает мастер. "Пускай отдохнет. Поработала…" - отвечает оператор. И точный авторский комментарий: "… о скважине - как о человеке. И о человеке близком, которого по имени можно не называть".
Для писателя - автора ряда произведений на "производственную тему" особенно важно умение преодолевать известное сопротивление материала, чужеродность собственно производственных проблем, конфликтов, всякого рода технических описаний в художественной ткани. Вспомним хотя бы описание угольника-снегоочистителя из повести "Молодо-зелено". Не последнее место здесь занимает та шутливая, несколько снисходительная интонация, которая как бы облегчает техническое описание, художественно "развоплощает" материал.
Пожалуй, еще более наглядно этот принцип находит свое выражение в романе "Скудный материк" - в частности, в его кульминационной сцене, когда все ждут, пойдет нефть или нет. Писатель стремится передать напряженность момента и хорошо сознает, что каждое чуждое слово, неестественная интонация, неточная фраза способны расхолодить читателя, ослабить его внимание. В этих условиях особенно важно найти правильный художественный эквивалент той технической проблеме, которой заняты герои, умело перевести ее в план социально-нравственный. И автор романа находит такой эквивалент: не загромождая описание техницизмами, он верно передает сущность происходящего процесса, фиксируя основное внимание на реакции участвующих в этом эпизоде героев.
Языку прозы А. Рекемчука свойственна скупая, не бросающаяся в глаза образность, естественность красок, доверительно-разговорная интонация. Вот начало рассказа "Исток и устье": "Уж если начинать - то с самого начала. С истока. Я знал, что туда, ближе к истокам, можно добраться пароходом единственный раз в году: весной, в половодье, едва скатится лед. Именно тогда в верховья Печоры поднимается судно, на котором - годовой запас всего, чем жив человек. Везут муку и сахар, одеяла и валенки, школьные тетради и батарейные радиоприемники. Один лишь раз может подняться пароход в те места - по большой воде, так как эта большая вода тут же схлынет, ощерятся пороги, обнажатся мели".
Стилю Рекемчука чужда искусственная экзальтация, напыщенность Перечитайте хотя бы сцену из повести "Мальчики", в которой Женя Прохоров слушает "Поэму экстаза" Скрябина, - и вы ощутите, как осторожно, деликатно рассказывает писатель о приобщении своего героя к большому миру музыки. Из этого, однако, вовсе не следует, что писатель вообще избегает пафосных интонаций. Примером могут служить другие сцены из той же повести, когда его герой неожиданно почувствовал властный зов творчества.
Один из существенных элементов стиля Рекемчука - ирония, насмешка. Многие страницы повести "Молодо-зелено" написаны в такой вот, например, игриво-насмешливой манере: "Иной раз даже совестно бывает перед человеком, который с самого что ни на есть раннего утра, едва повесив в табельной номерок, едва хлебнув на ходу в коридоре стакан бесплатной заводской газировки, бросается к письменному столу, к бумагам, скоросшивателям и специальной такой машинке, пробивающей в бумаге дырки: хлоп - и пара дырок. Стыдно отрывать его от дела, утруждать его вопросами, отвлекать его своим присутствием". Исподволь, без назидания такая интонация помогает правильной ориентации читателя, выполняет своеобразную оценочную функцию.
Чаще всего писатель иронизирует добродушно, мягко. Так он время от времени подсмеивается над Светланой Панышко, Николаем Бабушкиным, Черномором Агеевым. Но совсем иной оттенок приобретает ирония, когда автор рассказывает, например, о карьере Василия Шишкина ("Скудный материк"). Это, если можно так выразиться, ирония открытым текстом.
Писатель крайне экономичен, внешне даже скуп в использовании изобразительных средств. Субъективно это иногда ощущается как некоторая сухость повествования, но в конечном счете является выражением одного из важнейших принципов - принципа меры, художественной целесообразности.
Порой герои Рекемчука ведут диалоги из полуфраз, и эти диалоги не только понятны читателю, но из-за своей краткости еще и более выразительны; недоговоренность же как бы подчеркивает значительность, внутреннюю напряженность темы.
Писатель уверенно владеет манерой повествования от первого лица, требующей особого творческого напряжения, тонкого и сложного искусства вживания в мысли и чувства своего героя. Следует заметить, что, рассказывая от своего имени, герои все же больше думают и рассказывают не о себе, а о других. "… Мой рассказ именно о нем, - говорит Санька Рымарев из повести "Товарищ Ганс". - Не обо мне, а о нем. О человеке, которого зовут Ганс Мюллер". Рассказывая о себе, герой рассказывает о других, - таков принцип и самого автора, крайне важный для понимания особенностей его повествования от первого лица. "Исповедальность" в таком повествовании оказывается композиционным приемом, а не принципом изображения; при этом внимание фиксируется не на самоощущениях героя, сознающего себя центром мира, а на тех событиях, реалиях окружающей действительности, которая не только осознается им, но и формирует его как личность, гражданина.
Герой "Скудного материка" Иван Еремеев вспоминает, что он читал где-то, будто "человеческое тело в течение жизни сто раз меняется наново - каждой клеточкой, каждым волоконцем, все меняется, а человек между тем остается самим собой, каким был, при своем лице и при своих статях". Это в известной мере приложимо и к самому автору романа, всему его творчеству.
Открывая все новые и новые характеры, конфликты, совершенствуя свое художественное мастерство, постоянно изменяясь, А. Рекемчук в то же время остается верным самому себе, - "при своем лице и при своих статях". Пожелаем же писателю, достигшему рубежа пятидесятилетия - зрелого творческого рубежа, и дальше, изменяясь, оставаться самим собой.
Вячеслав Саватеев
Рассказы
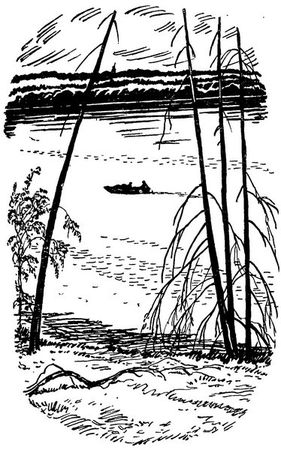
Исток и устье
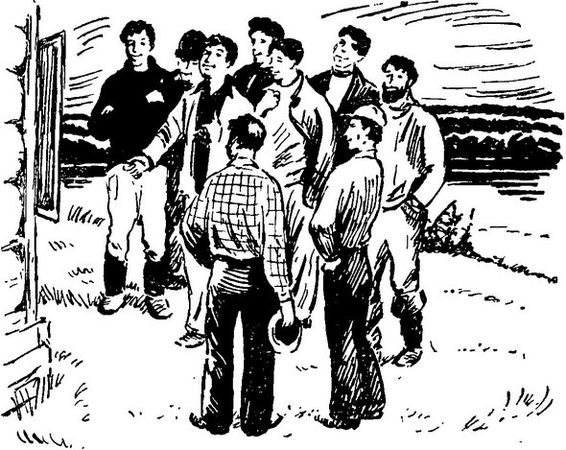
Уж если начинать - то с самого начала. С истока.
Я знал, что туда, ближе к истокам, можно добраться пароходом единственный раз в году: весной, в половодье, едва скатится лед. Именно тогда в верховья Печоры поднимается судно, на котором - годовой запас всего, чем жив человек. Везут муку и сахар, одеяла и валенки, школьные тетради и батарейные радиоприемники.
Один лишь раз может подняться пароход в те места - по большой воде, так как эта большая вода тут же схлынет, ощерятся пороги, обнажатся мели.
Едва ли не каждый день я названивал в Верхнепечорск: справлялся на пристани, надоедал персоналу гидрометеостанции, просил знакомых, чтобы загодя известили - когда он будет, этот единственный рейс.
И все равно опоздал.
Очень внезапна, бурна, скоротечна весна на Печоре.
Когда я примчался в Верхнепечорск, мне сообщили, что "Писарев" не только ушел вверх, но и успел уже засесть на мели, возвращаясь обратно.
Чертыхнувшись, я поплелся на райцентровский аэродром, хотя не об этом я мечтал всю зиму, - не о том, чтобы с птичьего полета, через плексигласовое очко созерцать эти места. Кроме того, я хотел взобраться именно к истокам, а самолеты летали лишь до Полоя, откуда до этих истоков, увы, не рукой подать.
Да что поделаешь?
Проболтавшись час в воздушных ямах, АН-2 сел на опушке близ Полоя.
Я пошел в деревню.
На крыльце магазина сельпо сидели скучные мужчины: ждали, когда откроется. Мое появление не вызвало у них никакого интереса.
Зато из ближнего дома тотчас выбежала беременная молодуха, справилась:
- Не ты уполномоченный?
- Какой уполномоченный?..
- Которому маклатуру сдавать - книги старые.
На крыльце оживились:
- Фиса, а много у тебя маклатуры?
- Как же у ней мало - вон сколь притащила за пазухой-то!
- Натолкала…
- Ха-ха-ха!
Живот у молодухи действительно был преогромный.
Воспользовавшись веселой минутой, я подошел к ожидающим.
- Здравствуйте. Вверх на лодке идти никто не собирается?
- Вверх?.. А зачем?
- Я хочу подняться к истокам.
- А-а…
Мужики понимающе переглянулись. Потом один сказал небрежно:
- Опять, значит, насчет инспектора.
- Какого инспектора?
- Что прошлый год в лесу пропал. Охотинспектор… Так теперь разве найдешь? Зимой, должно, доели его волки-то.
- Не найти, конечно, - вздохнул другой. - В тот год целое лето искали - не нашли…
- Да не нужен мне ваш охотоинспектор! - обозлился я.
- И нам не нужен. На кой он нам?..
- Понимаете, я хочу посмотреть истоки.
- А-а.