5
Птицы улетали высоко. Зима обещала быть мягкой.
Вокруг Бурова тонко и пронзительно пищал комар, вдруг появившийся поздней осенью. И это тоже сходилось с мамиными приметами, о которых она рассказывала, глубоко в них веря: "Жили у братца три сестрицы: весна-молодица, зима-белолица и осень-водяница. Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой..."
За поляной, усыпанной желтыми хвойными иголками, пахнущими ясно и остро, багрянился куст боярышника.
"Тиу-тиу-чис-чис-чис", - пел бело-черный пухляк, раскачиваясь на ветке. Мама иногда называла его гаичкой. Она любила птиц. Привыкла к ним в деревне. И любила. Всегда рассказывала мне о них. Заставляла прислушиваться. Особенно утром рано, если нам случалось быть в лесу. Уже девчонкой, услышав: "Ци-ци-би, ци-ци-би", я знала, что это поет синичка. "Си-си-си, си-тре-тэ-тэ-тэ", - подает голос лазоревка. "Пьи-ти, пьи-ти, тюй-пи", - жалуется московочка, черная синица. "Пю-рре, пю-рре", - ворчит гренадерка.
Буров дивится моим способностям различать голоса птиц. Он почесывает затылок, смешно шевелит губами, словно беззубый старичок. И лицо у него такое потешное, хорошее, что мне хочется целовать его и смеяться. В последнее время я смеюсь много...
Небо наклонилось над лесом синью, белыми облаками, окунулось в осеннюю розоватость, в желтизну увядания, испещренную морщинами тропинок, поседевшую от паутины. Воздух почему-то пахнет ландышами, хотя ландыши отцвели в самом начале лета. Но воздух пахнет этими цветами - никакими другими. И возникает желание напрячь взгляд, присмотреться к вялым листьям у ног и под ногами: а вдруг где-то рядом цветы?
Но рядом сосны и березы, и кусты боярышника - яркие, красивые кисти, которые никогда не пахли ландышами и никогда не будут пахнуть. Рядом дача, большая заброшенная дача, принадлежащая моей свекрови. Свекровь я не видела: она в далекой экспедиции на киносъемках. Если не путаю - на Новой Земле. Я ничего не знаю о Новой Земле, кроме того, что там холодно. И там живут белые медведи. А может, белые медведи живут не там? Все может быть...
- Тебя никогда не тянуло к фенологии? - спрашивает муж.
- Нет, - говорю я. Немного погодя, робко спрашиваю: - А что это значит?
Буров поднимает пилу так, что один конец ее находится на уровне глаз, другой тянется к полуголым березовым веткам. Щурится, говорит словно про себя:
- Разводить надо...
Бревно на козлах короткое, но толстое. Я люблю пилить тонкие бревна. Мне кажется, тонкие бревна пилить легче. Буров опускает пилу.
- Фенология - это разновидность биологии. В сфере ее внимания взаимосвязь живой природы с климатическими условиями. Скажем: сроки прилета и отлета птиц, сроки распускания почек, цветения растений...
По бревну полз муравей, черный, крупный. Пила ткнулась зубьями в бревно над муравьем. Но он выскользнул из-под нее. Пополз дальше, гораздо быстрее, чем прежде.
- Это скучно, - сказала я.
- Почему? Ты понимаешь птиц, как людей.
- Я. люблю работать с людьми, а не с птицами.
- Умница, - добро улыбнулся муж.
- Правда?
- Святая правда.
Я была счастлива. Наверное, можно сказать, была на седьмом небе. Я много раз слышала такое выражение, но никогда ясно не представляла, что оно значит.
Звук пилы получился как окрик. Пухляк взмахнул черно-белыми крыльями. Качнулась ветка боярышника. Свежие опилки порошили листья, точно снег. Вообще, конечно, не как снег. Они, скорее, напоминали мелкую снежную крупку, которой ветер колотит в окна стылой осенью. Тогда тучи давят темнотой небо, бегут низко. Может, так бегут волки по белому зимнему полю. Бегут и воют... Я никогда не видела живого волка. Я слышала про них в маминых сказках. И волчья стая казалась мне похожей на тучу.
Лицо Бурова приятно розовеет. И я розовею. Я это чувствую. И дыхание у меня хорошее. Все-таки здорово пилить дрова в осеннем саду голубой солнечной погодой.
Рядом с дачей флигелек. Глазеет двумя окнами. Подслеповато. Он совсем старый, совсем заброшенный. Дверь осела. Плотно не прикрывается. Вот почему зимой в подслеповатом флигельке живут птицы. Они жили бы и летом. Но летом, судя по рассказам мужа, моя свекровь часто бывает на даче. Дружбы с птицами у нее нет.
У флигелька есть одно достоинство. Уверена, любая хозяйка (пусть даже молодая) оценит его. Там сложена печь: с просторной духовкой и двумя конфорками. Два дня назад в той духовке я пекла печенье. Пекла по заветному маминому рецепту. Так старалась... и забыла положить в тесто сахар.
Попробовала. Фонтан слез! Да что слезы? Если бы не Буров... Он молодец. Он сказал: "Подумаешь - сладкое печенье. Такое есть во всем мире. А это печенье особое, может, единственное на свете. Потому что оно вкусное, хотя и не сладкое". Немного погодя, он нашел где-то в шкафах сахарную пудру. Посыпал ею печенье. Попробовал. И бодро воскликнул:
- Наташка, это печенье надо запатентовать! Вот так свершаются великие открытия!
Я была благодарна ему. Какое-то время еще всхлипывала, но уже с улыбкой на лице.
Пила визжала, шла туго. Дерево зажимало ее, противилось. Воздух больше не источал запахи ландышей, кисло пахло опилками и нагретым железом. Сосны бросали тень на крышу флигеля, на дорожку, на козлы, где лежало бревно. Небо просачивалось меж верхушками. А они темнели, как скалы. Скалы на берегу океана...
- Привал, - сказал Буров.
Расстегнул куртку. Рывком. Молния разделилась на две змейки, обнажая фланель клетчатой рубахи.
- Не надо, - сказала я. - Простудишься.
- Жарко.
- Пусть жарко. Не снимай. Простудишься. Тебе придется ставить банки, а я не умею.
- Научишься.
- Я не хочу учиться этому. Я хочу, чтобы ты всегда был здоровым. И любил меня. Не снимай. Лучше я тебя поцелую.
- Поцелуй, - согласился он. Но тут же добавил: - Только застегивать куртку я не буду. Жарко.
- Хорошо. Не застегивай.
"Тиу-тиу-чис..." - опять запел пухляк, подсматривая за нами с березы. Я погрозила ему пальцем. Ветер вдруг скользнул над ветками. Хвоя посыпалась желтыми иголками. Иголки попадали на бежевый берет Андрея, на плечи, даже на очки. И я, конечно, была в иголках. Но я не видела себя со стороны, а муж не говорил ничего, только улыбался.
Где-то за дорогой лаяла собака, кудахтала курица. Буров достал сигарету и закурил.
Потом он рубил дрова.
Топор с тяжелым уханьем входил в чурки. Они разлетались не сразу, белели древесиной, сорили щепами.
По дорожке, что вела к фасаду дачи, вышел пожилой мужчина в длинном, старого покроя макинтоше. Лицо его было так же старо, как и макинтош. В руке он держал толстую сучковатую палку.
- Добрый день, - вежливо сказал мужчина, приподняв зеленую шляпу.
- Добрый день, - ответила я.
Буров выпрямился, не выпуская топор, повел плечами. Сказал:
- Здравствуйте.
- Я ваш сосед, - пояснил пожилой мужчина в зеленой шляпе, - я живу там.
Он поднял палку и показал ею на север.
- Очень приятно, - сказал Буров.
- Я услышал звук топора и пошел, как на огонёк, Я думал, здесь работают мастера.
- Мастера? - не поняла я.
- Мастера по распилке дров, - разъяснил мужчина в зеленой шляпе.
- Мы и есть мастера, - весело отозвался Буров. - Шабашники-сезонники.
Мужчина в зеленой шляпе недоверчиво покачал головой.
- Не похоже.
- Очень даже похоже, - не унимался Буров. - Я мастер, она мастерица.
- Хорошая у вас мастерица, - улыбнулся мужчина. Лицо его в момент улыбки не помолодело, не осталось прежним, оно постарело, постарело на много лет.
- Мастерица - высший класс, - сказал Буров, обнял меня за плечи.
Мужчина в зеленой шляпе кивнул в знак согласия, произнес тихо:
- Прелестная сегодня погода.
- Да, - сказала я. - Так мило на улице.
- А в доме сыро, - мужчина оперся на палку, стоять ему было тяжело.
- Вы присядьте, - я освободилась от объятий Бурова и указала на скамейку, что, обсыпанная хвоей, стояла между двух сосен.
Мужчина в зеленой шляпе тоскливо покачал головой:
- Я пойду.
- Погодите, - сказал Буров. - Вы живете один?
- Увы. Внуки вспоминают обо мне только летом.
- Тогда посидите пару минут. Я сейчас расправлюсь с чуркой. А потом, много не обещаю, но бревно с этой мастерицей мы для вас разделаем.
- Нет, что вы! - смущенно, испуганно пробормотал мужчина в зеленой шляпе, - Мне неудобно. Я думал...
- Ничего, ничего, - перебил его Буров. - Не надо усложнять жизнь. Мы запросто, по-соседски...
Дача старика была размерами меньше, чем у моей свекрови. Но стены здесь темнели кирпичом, и ступени на крыльцо вели цементные. Солнце садилось, деревья еще не заслоняли его. Крыльцо было высвечено щедро.
Старик поил нас французским ликером. Мы закусывали черноплодной рябиной, которая лежала на непокрытом столе, под солнцем, и капли на ветках и ягодах светились, и ликер светился в бутылке, зеленый ликер, в пузатой бутылке из толстого стекла.
Ненавязчиво, а как-то очень грустно старик благодарил и меня и Бурова. И говорил, что тех двух бревен, распиленных нами, хватит ему надолго, до самых снегов, а может, и дольше, потому что дом все-таки теплый, только вот сырость, с сыростью надо бороться. Старику было восемьдесят лет. Всю жизнь он проработал врачом-педиатром. А теперь вот коротал дни на даче, на свежем воздухе, среди хвои и тишины...
Буров излучал хорошее настроение, он устал немного, но был доволен всем: мной, стариком, осенью, этим недельным отпуском, который он выхлопотал для нас у директора фабрики.
- Верно, верно, - говорил он. - Старость прекрасна, как и молодость. Другое дело, что не все доживают до почтенных лет...
Мы возвращались домой с первыми звездами. С блеклым сумраком и робким ледком на тропинках.
- Будем топить печь? - спросила я, когда мы подошли к даче.
- Не будем, - махнул рукой Буров.
- Рискнем?
- Рискнем.
6
Птицы улетали высоко. Зима обещала быть мягкой. На ветке боярышника пел пухляк. Солнце меж соснами, натыкаясь на мокрые стволы, блуждало в рассветном тумане, словно человек с завязанными глазами. Туман лежал у крыльца, на козлах, на поленьях, отсыревших за ночь. Туман слушал, как пела птица: "Тиу-тиу-чис-чис-чис. Тиу-тиу-чис..."
ГЛАВА ШЕСТАЯ
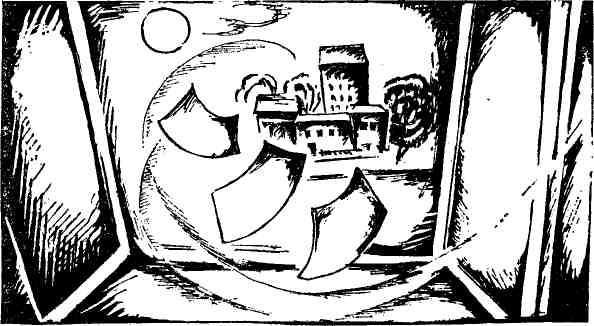 1
1
- Ты хорошо подумала? - спросил Буров строго.
Строгость в его голосе приводила меня в трепет. Разумеется, не в испуганный или раболепный. А в такой... как бы лучше сказать, уважительный, что ли...
Я пришла в редакционную комнату после смены. И Буров сидел за своим, заваленным гранками, как мусорный ящик хламом, столом и смотрел на меня с таким превосходством, словно я была не его законная жена, а какой-то докучливый, неинтересный автор.
- Хорошо, - ответила я не очень уверенно.
- Высшее образование - это на всю жизнь, - произнес он традиционным нравоучительным тоном.
- Почему? - легкомысленно спросила я.
- Институт кончают один раз.
- Можно и два.
- На этот счет пословица есть.
Я не знаю, как и где возникло выражение: дым висел коромыслом. Но, вне сомнения, оно предназначалось для кабинета Бурова, как седло для лошади.
- Какая? - спросила я, пытаясь открыть фрамугу.
- Для умного и одного института много, для дурака и двух мало.
- Умный - это, конечно, ты, - ответила я весело, усердно дергая за шнур.
- Слушай, не открывай, - замахал рукой Буров. - Сквозняком потянет, а у меня горло шалит.
- От дыма шалит.
Фрамуга откинулась с грохотом, напоминающим раскат грома. Буров даже подскочил. Неудовольствие на лице, как вывеска на магазине, - броская и лаконичная.
- Милая моя, окно разворотишь.
- Милый мой, не замерзнешь. А замерзнешь, дома отогрею.
Ключик верный. Буров добреет, как кот, которого гладят по головке. Вперевалочку выходит из-за стола. Говорит:
- Все-таки подумай, Наташа. Я тебя не отговариваю. Инженер-технолог по обработке кожи - это хорошо. Но, может, лучше модельер. Ты же рисуешь.
- Ну, как я рисую! Глупости.
- А если выбрать другую науку: филологию, историю искусств?
- На вечерний принимают прежде всего по профилю работы. Сам знаешь! А филология, история искусств... Господи! Мне сочинение хотя бы на тройку написать.
- Сочинения пишут по шпаргалкам, - сказал Буров. - Во всяком случае, все приличные люди...
Он сказал это убежденно. Без всякого юмора.
- Как минимум, для этого нужно уметь пользоваться шпаргалками, а как максимум, иметь шпаргалки, - предположила я.
- Пиши, - посоветовал Буров.
- Я купаюсь в свободном времени.
- Такого никогда не случится, - он обнял меня за плечи.
Было в нем тогда что-то родное, близкое. Словно мы жили друг с другом не год, а век. На минуту все отдалилось, поплыло. Только розовый вечерний свет задыхался в кабинете да из неясных углов проглядывала тишина.
- Я помогу тебе, - сказал он. - Экзамены - это спортивная игра. А у каждого спортсмена есть тренер. Я буду твоим тренером.
Увы! Тренерские возможности Бурова оказались ограничены лишь знаниями в области русского языка. О физике, химии, математике он имел туманные представления, несмотря на свое высшее, университетское, образование.
Теплым августовским утром я и Буров оказались возле здания технологического института. Участок улицы, прилегающий к институту, напоминал место сбора демонстрантов на майские или ноябрьские праздники. В пестрой толпе людей самого различного возраста смеялись, громко разговаривали, пели, вот только, разве не танцевали. Пожалуй, самой озабоченной физиономией была здесь физиономия Бурова, которого абитуриенты принимали, видимо, за доцента. И расступались почтительно и перешептывались, глядя нам вслед.
Еще дома Буров предупредил:
- Обычно предлагают три темы для сочинений. Одна из них свободная. Бери свободную. Через сорок минут попроси разрешения выйти из аудитории. Остальное - моя забота.
...В нашей группе сочинение писали человек пятьдесят. Я заняла место у окошка, подальше от столика преподавателя. Рама была распахнута. И улица с третьего этажа просматривалась далеко, до самого перекрестка. Через перекресток катили машины. Они катили так тесно, что казалось, движется сама улица в наряде из пестрых крыш. Светофор управлял ею единолично, как император. Она подчинялась ему покорно и даже старательно.
В десять часов пришла экзаменатор. Женщина в годах, худая, с нездоровым цветом лица. Она оглядела аудиторию без приветливости, взглядом не злым, а утомленным. Попросила сидящих на первых местах раздать по рядам бумагу. Взяла мел и, стуча им по доске вызывающе громко, словно костяшками счет, стала писать темы сочинений.
Горький. Романтические образы... Чернышевский. Новые люди в романе "Что делать". И наконец то, о чем говорил Буров, - "Молодым везде у нас дорога..."
Бесспорно, для Бурова, окончившего факультет журналистики, эта тема не представляет особых трудностей, А мне... Для меня был лучше Чернышевский. У Николая Гавриловича все ясно и понятно: разумный эгоизм Рахметова, "Четвертый сон Веры Павловны"... Но, к сожалению или к счастью, в те годы я еще не страдала ярко выраженным стремлением к самостоятельности. Подвинула к себе проштемпелеванный фиолетовыми чернилами листок и не торопясь, старательно вывела название свободной темы.
Что писать дальше? Это верно - молодым везде у нас дорога, знает каждый. Хочешь работай, хочешь учись. Хочешь учись и работай. Замуж тебе или жениться приспичило, опять же никто препятствий чинить не будет...
И все-таки для таких сочинений какие-то законы есть. Видимо, стихи подходящие цитировать нужно, примеры из литературных произведений приводить. Павка Корчагин, молодогвардейцы, Алексей Мересьев... Словом, стала на листочке что-то наподобие плана набрасывать. А сама на часы посматриваю...
Вдруг ветром потянуло, дверь открылась. И вижу: в аудиторию, сверкая очками, вваливается мой Буров. А экзаменаторша, вялая и скучная, преображается в лице. Улыбается. Буров тоже улыбается, целует ей ручку.
У меня от волнения даже дыхание перехватило. "Это же надо, - думаю, - откуда у моего супруга такие связи?"
А они тихо-тихо поговорили. Экзаменаторша отыскала меня взглядом. Потом что-то сказала Бурову. Он порозовел от удовольствия. Вскоре откланялся и вышел.
В определенное Буровым время я попросила разрешения выйти из аудитории.
- Пожалуйста, пожалуйста, - вежливо сказала экзаменаторша.
Буров ждал меня в коридоре.
- Откуда ты ее знаешь? - ревниво спросила я.
- Старые друзья, - весело ответил он. - Вела у нас факультатив по языку и стилю. Оказывается, в этом институте нет кафедры русского языка, приглашают на экзамены со стороны.
- Чего она смотрела на меня?
- Я сказал, что ты моя жена. Она одобрила выбор, - похвастал Буров.
- Влепит она пару твоей жене. Это точно.
Однако Буров был спокоен. От его круглой, счастливой физиономии исходили доброта, умиротворение, как тепло от протопленной печи.
- Не забывай слова Чехова: краткость - сестра таланта, - напомнил он, протянув лист мелко исписанной бумаги. - Постарайся не делать ошибок. Смело клади шпаргалку на стол. Ни в коем случае не держи на коленях.
Все! Указания были получены. Я вернулась в аудиторию. Спокойно положила на стол шпаргалку. И прочитала первую фразу.
"Широка страна моя родная" - так поется в песне, известной каждому советскому человеку..."
Однако это оказалась единственная фраза, которую я успела прочитать. Кто-то открыл дверь. Выстрелил сквозняком. И моя шпаргалка вместе с листками легальной, проштемпелеванной бумаги оказалась за окном. Птицами летели листки над улицей. Вертелись, точно помахивали крыльями.
Ветер слизнул бумагу со столов и у других абитуриентов, но только моя выпорхнула за окно.
Экзаменаторша проявила ко мне участие. Выдала новые листки. Сказала:
- Пишите кратко. Я учту инцидент.
...Кратко не получилось. До Юрия Гагарина дошла только на шестой странице. Заслужила четверку. Думаю, знакомство Бурова здесь ни при чем.
Вторым экзаменом была физика. Отношение к этому предмету у меня сложилось двоякое. Я обожала эту науку. Но с моими отнюдь не ньютоновскими способностями мне следовало бросить работу, не учить ни химию, ни русский, ни немецкий, вот тогда бы я, наверное, хорошо, а может, и отлично, усвоила физику. Другими словами, любить-то я ее любила, но доходила она до меня туго. И хотя я знала, что магнитные силовые линий прямолинейного тока имеют форму концентрических окружностей, расположенных в плоскостях, перпендикулярных проводнику, помнила и первый и второй закон преломления света, страх перед экзаменом по физике превосходил страхи даже перед бормашиной. Я согласилась бы запломбировать четыре или пять зубов, пусть только за каждый зуб мне поставили бы по баллу.