Задумавшийся монах взъерошил свой загривок и как-то неуверенно ответил неофиту, что это совсем необязательно, были, мол, случаи, когда человек до митрополита дослуживался, а потом церковным судом судим был.
Казаков подумал тогда: "Э-э, да тут настоящее государство в государстве. И суд свой имеется. Как офицерский суд чести в армии. И наградная система с орденами, медалями…"
Так что сейчас, в начале празднества, Анатолий с удовольствием лицезрел своих товарищей в убранстве, которое, в отличие от обычной черной рясы, давало полное представление о том, кто есть кто.
Рядом с отцом наместником стоял отец Ферапонт. На его красиво подстриженную голову была водружена фиолетовая шапочка – камилавка. Первая награда, которой могут удостоить в системе. Поясом ему служила широченная золотая лента, ярко выделявшаяся на голубом фоне.
"Ого, какой наряженный сегодня Ферапонт. Значит, отслужил он беспорочно десять лет. Получил в награду не только камилавку, но и двойной орарь, символизирующий то самое полотенце, которым Христос вытирал ноги своим ученикам.
Да и отец наместник красавец. Такую митру разрешает носить только патриарх после тридцати лет служения Церкви. Правда, в отличие от архиерейской ее не венчает крест. Но все равно – красиво.
А на шее у него – патриарший крест. Такой имеют вообще единицы. За особые заслуги".
Пока послушник удивленно глазел, молебен шел своим незыблемым порядком, отточенным веками.
Слева от главных действующих лиц, на ступеньках храма расположился хор певчих. В основном это были женщины в белых платках и блузках с надетыми поверх черными жилетами. Скороговоркой архимандрит затягивал молитву, восхваляющую подвиг Божьей Матери, а хор ангельскими голосами подхватывал ее в нужных местах.
"За две тысячи лет все доведено до совершенства. И ритуал, и пение, – думал послушник. – И праздничное богослужение в честь Успения Пресвятой Богородицы – это на самом деле целое многочасовое действо, своего рода спектакль с хором, солистами, участниками, как на первых, так и на вторых ролях".
– Богородице Дево, радуйся! – воскликнул архимандрит.
И в эту секунду он, Анатолий Казаков, под дружное пение начал свою, личную молитву. Как душа его истерзанная просила, искренне и истово молил он шепотом деву Марию:
– Богородица, если ты слышишь меня, прости за то, что случилось тогда под селом Бечик, где я отличился на войне… Может быть, она и этот мальчишечка искупили бы свою вину, нашли бы новую дорогу в жизни. Но получилось так. И смертный грех на мне.
В этот праздник, когда весь народ церковный и нецерковный собрался здесь у твоей иконы, все ждут от тебя чуда. Сотвори его и для меня, благодатная Пресвятая Богородица. Припадаю к тебе с последнею надеждою!
Он подался вперед. Его словно что-то звало и манило туда, на паперть собора.
– Куда идешь! Не видишь?! – толкнул его в бок сосед.
Очнулся. Вспомнив свою работу, начал торопливо разжигать кадило. Но все равно не успел к тому моменту, когда дьякон басом грянул свою партию. И тот так зыркнул на него глазами, что Казакову стало страшно неудобно и неловко за то, что он задержал ход празднества.
Но он не обиделся. За последнее время он много узнал. Понял, что монахи в принципе очень одинокие и ранимые люди. И от этого с ними бывает трудно.
Погруженные в себя, они могут выглядеть черствыми и неотзывчивыми. Но с ними можно ладить.
Впереди началось главное действо. Крестный ход вокруг монастыря. А крестный ход для воинства Христова – как парад для армии. Молодые, с непокрытыми волосами дьяконы кадили ладаном. Народ выстраивался со свечами в руках.
Анатолий уже знал свое место в строю. Он поднял над головою тяжелую хоругвь с ликом Христа. Но строгий распорядитель забрал ее и вручил рапиду. Укрепленный на длинном древке лучистый круг (из золота, серебра или бронзы) с изображением шестикрылого серафима был символическим опахалом. Когда-то рапидами пользовались из практических соображений, чтобы отгонять мух, ос, пчел от святых даров. А сейчас они символизировали участие небесных сил в земных делах.
Анатолий встал в ряд с молодыми дьяконами. Все запели очередной псалом и двинулись по вымощенной цветами дороге следом за иконой и плащаницей с изображением Божьей Матери.
Тысячи людей, выстроившиеся вдоль дороги, приветствовали их, совершали крестное знамение, пристраивались к процессии.
Анатолий с высоко поднятой рапидой торжественно прошел вдоль этих рядов, чувствуя радостные, умиленные, растерянные взгляды.
Начальствующие лица, в числе которых были владыка, наместник, архимандриты, сделали большой круг и остановились на Успенской площади.
Начался чин погребения плащаницы Божьей Матери.
Владыка по большому Евангелию читал похвалы Богородице.
Анатолий, чуть повернув голову, смотрел на плащаницу, на полный безмерного сострадания и милости лик Богородицы.
В эти минуты что-то случилось с ним. Он вдруг ощутил, как от плащаницы к нему словно протянулся солнечный лучик. И эта огненная нить, от которой шла странная энергия, нащупала его сердце, проникла вглубь под поношенную рясу послушника.
Он не мог оторвать взгляда от лика Богородицы. А в сердце под воздействием лучика, пения и образа вдруг разлилась такая радость, такое тепло и гармония, что он не выдержал. Всхлипнул. И смахнул набежавшие на глаза слезы.
"Вот как она приходит – благодать Божия!" – думал он, ликуя душою.
Уже завершился чин погребения. Начал расходиться с площади в наступающей вечерней темноте народ и клир. А он, все еще потрясенный и обновленный пережитой радостью, стоял, держа в руках древко с крылатым серафимом на лучистом диске. И сам чувствовал себя ангелом, вознесшимся к Небесам.
VII
Зима в России всегда приходит нежданной. Вот и в этом году уже в начале декабря "почему-то" выпал снег. А к Рождеству замело и поля, и леса, и деревню, которую Александр Дубравин выбрал на жительство.
Окончательно поселиться в ней ему пока не удалось. Дела в городе не позволяли. Но приехать на выходные он сюда уже мог.
Процесс укоренения он начал со строительства бани. Точнее, гостевого двухэтажного домика, в который органично вписалась и русская баня с бассейном.
Получилось хорошо. Топится баня исключительно дровами. Изнутри обшита хорошим липовым лесом. И от этого пар в ней легкий, а климат – мягкий.
Отдыхает в такой бане человек и душой, и телом.
Вот и Дубравин, попарившись вчера с дубовым веничком, сегодня отправился на деревенский праздник, который сам же и предложил устроить.
Народ решили собрать в колхозной конторе. Колхоза, правда, давно уже не было. А вот здание правления осталось. К нему-то по заснеженной улице и подтягивался здешний немногочисленный люд. Шли бабульки и дедульки, а также женщины среднего возраста, одетые в тяжелые ватные пальто и шубы, замотанные в шали, обутые в валенки и бурки.
Одежда, от которой давно ушла городская мода, но никогда не откажется русская деревня.
Все они собирались в жарко натопленном по такому случаю одноэтажном здании. Снимали с себя ватные и меховые доспехи. Переговаривались, присаживались в уголках.
В большой комнате, где, судя по всему, когда-то заседало правление колхоза, накрыли вдоль стены длинный стол. За ним могло уместиться десятка три человек. А на столе было все то, что заготовлено на длинную русскую зиму. Картоха толченая, огурчики соленые, помидоры, квашеная капустка, моченые яблоки. Копченое и соленое бело-розовое сало… Да мало ли что еще хранится в закромах родины! Не в каких-то мифических, выдуманных штатными пропагандистами закромах, а в настоящих, деревенских.
Заправляла хозяйством Сорокаумова. Она хоть и депутат, а селянам люба за готовность посидеть и выпить с народом.
Местные для этого действа доставили припасы. А городские – "огненную воду".
Ящик стоял в уголке, дожидался своего часа.
Серега Чернозёмов тоже расстарался. Пригласил на торжество не абы кого, а первого парня на деревне – гармониста.
Самая бойкая здесь – это староста Валентина Михайловна, для своих – баба Валя. Она была уже готова подать сигнал к началу. Тем более, что прибывающие живо интересовались:
– Баб Валь! А что мы здесь сегодня собрались? По какому такому случаю в столь суровую зимнюю пору мы выбрались из теплых домов?
Дубравин понимал, что люди толком и не знали о Рождестве. Среди поселян было немало воспитанных советской властью закоренелых безбожников. Так что следовало чрезвычайно аккуратно произносить тосты, чтобы не показаться бывшим советским, а ныне российским гражданам странным и диковатым. Поэтому он поднял граненую старинную рюмку с водкой перед собой и произнес приличествующую случаю, но не совсем канонически выдержанную речь.
– Господа-товарищи! Две тысячи лет тому назад в малом городе Назарете родился такой парень по имени Иисус. Он вырос, возмужал. И когда-то произнес самые главные в мире слова: "Возлюбите ближних своих, как самих себя!" Так началась новая эра в истории этого мира. С тех самых пор христианский мир празднует день рождения того парня, Иисуса Христа. Который не только на словах, но и на деле пострадал за всех нас. Отдал свою жизнь. Так давайте же сегодня вспомним его! И дружно выпьем за праздник Рождества Христова!
Народ дружно сдвинул стаканы.
И деревенская гулянка пошла, покатила своей дорожкой.
Гармонист, раскрасневшийся от водки и сала с картохой, растянул меха. И, как заведено из века в век, народ дружно грянул:
Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня,
Моего коня, белогривого,
У меня жена, ох, ревнивая.
У меня жена, ох, красавица.
Ждет меня домой, ждет-печалится.
Дубравин пел со всеми. И если раньше, в столице, ему, воспитанному на "Битлз" и "Скорпионз", казались чуждыми родные напевы, то сейчас они были в самый раз. В этих краях, где воет пурга и метут метели, такая песня звучала не только естественно и красиво. Она была нужна и очень даже правильна. Потому что отражала чаяния, суть и душу народа, затерянного на гигантском вымерзшем пространстве.
Затем гармонист грянул плясовую. И пошла гулять губерния!
Дубравин вышел на улицу. Унять хмель. Проветриться.
За окном шумели люди. А здесь не видно не зги. Тишина. И ведь лет сто тому назад было Луговое цветущим краем. В летописи оно впервые упомянуто вообще четыреста лет назад. Тогда на берега прекрасной, чистой реки пришли сюда в дикое поле русские переселенцы. Отстроили богатое поселение с большой церковью, избами, лабазами, промыслами. А вот теперь от него осталась умирающая, как и тысячи других, деревенька. Грустно.
Мороз-воевода шарил ледяными руками, забирался под свитер, хватал за коленки. Небо мерцало мириадами звезд: "Неужели ничего нельзя сделать? Неужели вот так обречены влачить жалкое существование наши деревни и села?"
Дубравин давно понял для себя – в жизни нет ничего более практичного, чем хорошая философия. И вот сегодня, раз выпал такой денек, Александр задумался: "И что ж у нас в России жизнь такая неустроенная? Все-то у нас сикось-накось. Или с помощью авось и небось. Отчего? Наверное, от того, что у людей нет ясности в уме, в душе. Нет покоя! А откуда ему взяться, коли все вокруг кипит, пенится, корежится и ломается.
Она, душа, по-настоящему может успокоиться только тогда, когда приходит в нее вера. Только с нею ничего не страшно. Ибо есть Бог. И он обязательно управит, утрясет все, как надо".
Взгляд Дубравина привычно наткнулся на силуэт стоящей посередине села, на пригорке, разоренной церкви. И сердце, как всегда, царапнул вид покосившегося креста на колокольне, заросшей кустарником крыши.
"Так не бывать же этому! – немного выспренно, под действием алкоголя подумал он. – Жизнь здешняя угасает по одной простой причине. Народ утратил веру, перестал жить по заповедям Христовым. А чтобы вернуть ее людям, надо восстановить хотя бы храм. Не причитать, не хныкать, а взяться за восстановление церкви".
И так легко ему стало после этого решения, что он даже рассмеялся во все горло. И раскатистый его смех долго еще звучал во мраке и темноте зимней ночи.
Дубравин вернулся обратно в здание. Там уже шел пир горой. И приободрившийся народ гремел, как в старые добрые советские времена, песни о первой любви.
Он аккуратно подсел к старостихе бабе Вале. Налил ей и себе по рюмочке. Они чокнулись. Выпили. И Дубравин, кашлянув, завел такую речь:
– Валентина Михайловна, а я вот что надумал. Будем церковь восстанавливать!
Та глянула на него снизу вверх удивленными синими глазами, поставила на стол натруженными пальцами тяжеленький стаканчик и заметила:
– Наверное, лучше было бы газ провести.
Но Дубравин твердо сказал, как отрезав:
– Будет церковь – будет и газ!
А сам подумал: "Не зря же наши путешественники при освоении нового места первым делом ставили на холме церковь. От нее все и начиналось".
* * *
Через пару дней о своей задумке он решил поведать соратникам. Как ни странно, Чернозёмов задал ему сакраментальный, идущий из глубины народной души вопрос:
– А почему мы должны восстанавливать? Мы же ее не разрушали!
На что Дубравин, может быть не совсем понятно для окружающих, но вполне убедительно для себя ответил:
– Так уж получается. Не мы разрушали. А восстанавливать порушенное придется нам. Как говорится, отцы и деды ели кислую ягоду, а у сыновей на зубах оскомина. Видно, доля наша такая.
На том и остановились. Взяли в деревне ключи. И поехали осматривать доставшееся хозяйство.
Ржавые ворота храма, оказавшиеся металлическими, они отворили с трудом. Открывшееся зрелище с одной стороны расстроило их, а с другой – обнадежило.
Все просторное помещение на полметра было завалено пометом облюбовавших храм местных голубей.
В алтаре стояла насквозь проржавевшая веялка с транспортером. Судя по всему, в храме когда-то был зерносклад. Он то и стал для "птицы мира" столом, домом и…
Исследователи переобулись в резиновые сапоги и принялись за дело.
– По царскому указу, кажется, Николая I, в каждом селении, где проживало более тысячи человек, строили вот такой типовой храм, – заметил Чернозёмов.
– Значит, в Луговом проживало столько народа? – удивился Дубравин. – Да, постарались большевики.
Они открыли внутренние дверцы и прошли в притвор – небольшую комнатку, в которой, судя по всему, была конторка учетчика. Там на полке валялись пропитавшиеся пылью какие-то бумаги. Чернозёмов поднял их. Сдул пыль и открыл бухгалтерский журнал с записями.
– Знаешь, как назывался колхоз, который здесь был? – спросил он.
– Как?
– "Веселая жизнь"!
И они захохотали как сумасшедшие.
– Смотри, амбарная книга!
А в книге были записи о том, сколько колхозники сдали натурального налога.
Чернозёмов читал:
– "Щербаков – сто штук яиц, два ведра сметаны, десять курей… Петров – пятьдесят яиц…"
– Ну и так далее. По списку.
И как будто пахнуло на них из этой ветхой амбарной книги еще совсем недавней жизнью. Жизнью, которую уже не вернуть, но и не забыть.
Призадумались. Видно, не очень весело тут было. Раз разбежался народ по городам и весям.
По обветшавшей скрипучей лестнице Дубравин поднялся на колокольню. И задохнулся от ощущения простора, от вольного воздуха.
– Боже милостивый! Хорошо-то как!
Прямо перед ним быстро бежала незамерзающая прозрачная река, окаймленная кустами и деревьями. За ней широко раскинулся заповедник, в котором озера чередовались с лесками.
А дальше, насколько хватало глаз, раскинулись поля и степь.
"Россия – родина слонов!" – подумал он, вспомнив, что где-то за горизонтом, в долине Дона расположен археологический заповедник. И в нем собраны кости мамонтов. Здесь когда-то бродили целые стада этих животных. Потом пришли люди. Они любили, страдали, охотились, строили. И поколение за поколением уходили в эту черную, жирную землю, удобряя ее своим прахом.
* * *
Работы начали с самого простого. Вырубили кустарники, очистили церковь от помета. Разобрали и вывезли на металлолом старый ржавый механизм. Заделали дыру. Поставили окна и заказали огромные двери.
Не сказать, что все прямо-таки запело и закипело. Но дело потихоньку-полегоньку и, как любят говорить священники, "с Божьей помощью", пошло.
Денег было мало. Но Дубравин все равно изыскивал средства для ремонта.
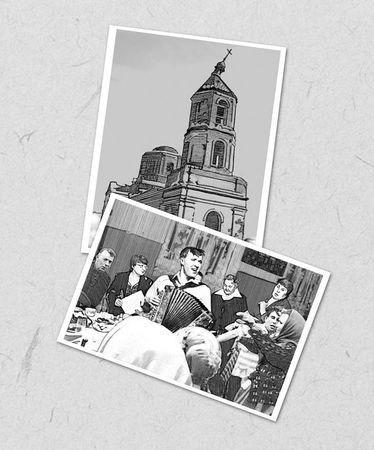
Деревенские сначала косились. И проходили мимо. Но со временем подтянулись человек десять, которые стали помогать. И Дубравин для себя понял одну простую истину: "Народ – он как ребенок. Приучен за века смотреть в рот барину, начальству, парторгу. И действовать в соответствии с указивками. Поэтому ему важно показать пример. Какой подашь – такой жизнь и будет!
Конечно, никакой особой религиозности и рвения деревня Луговое не проявит. Вера, церковность – они воспитываются с детских лет. А здесь десятилетиями религиозная традиция старательно уничтожалась. Стало быть, из ниоткуда ничего и не появится. Будет только имитация веры. Подход утилитарный и потребительский. Но для начала и этого достаточно".
VIII
Послушник Анатолий уже пообвыкся в монастыре. Первое время ему казалось, что жизнь в обители однообразна и скучна. Пока он не понял, что ошибся. На самом деле здесь, за высокими старинными стенами, кипит жизнь внутренняя, духовная. И идет нескончаемая битва за души людей.
Впервые у Казакова появилось время, чтобы подумать обо всем случившемся. Покопаться в самом себе в хорошем смысле этого слова. Тем более, что мир, открывшийся ему, был чудесен и своеобразен. И познавать его хотелось бесконечно.
Особенно полюбил послушник задавать разные вопросы духовнику. Сегодня был как раз такой день. Выдалось свободное время, они собрались в тихом месте. В беседке. И втроем – духовник, дьякон и послушник – неторопливо, греясь на весеннем солнышке, вели свой нескончаемый разговор. О жизни, Боге, вечности и небесной иерархии.
– Я так понял, – спросил послушник, – что лестница иерархическая идет с земли?
– Анатолий! – добрейший отец Александр, потряхивая гривой и улыбаясь, ответил ему как неразумному отроку:
– Здесь, на земле, эта лестница только начинается. А дальше она тянется все выше и выше, пока не упирается в Престол нашего Господа. Потому что и те, кто на Небесах, тоже имеют свои ранги.
– И какие же? – засмеялся послушник, вытирая пот со лба рукавом рясы.
– Ну, это все знают. Святыми отцами эта небесная иерархия описана. Силы Небесные состоят из ангелов, архангелов…
– Потом все выше и выше. Начала, Власти, Силы, Господства, Престолы, серафимы, херувимы. Престолы ты видишь на наших православных иконах.
– А вы сами, отец Александр, когда-нибудь видели ангелов небесных? – задал такой вопрос дьякон Роман – рослый красавец с алыми губами.
– Я – нет! – с сожалением сказал этот огромный старик. – Но святые отцы рассказывали, что ангелы небесные к ним спускались. Всем известно, например, что ангел явился святому Сергию Радонежскому, когда он был еще отроком.
– А вот власти, они какое место среди Небесных Сил занимают?