Раскрытые глаза Сантанеевой недвижной пустотой смотрели на него. Она сидела за столом, безвольно склонив голову на спинку высокого кресла. Петельников сделал непроизвольный шаг вперед, уже решая, где взять врача. Или сразу вызывать эксперта со следователем...
- Я ждала тебя, инспектор.
От неожиданного и хриплого голоса он на секунду оцепенел, мысленно обругав себя за это оцепенение.
- Вот я и пришел.
- Хочешь выпить?
- Нет, спасибо.
- Какой у тебя чин, инспектор?
- Капитан.
- Тогда я сделаю тебе "глаз капитана". Разобью в водку сырое яйцо, и оно будет плавать там, как желтый зрачок. Ха-ха!
Но она не пошевелилась, обвиснув на кресле. Сколько же она выпила за ночь? Две пустые бутылки из-под портвейна и две полные водки. Выпила полтора литра крепкого вина...
- Я ждала тебя, капитан, - повторила она.
- Что-нибудь нужно?
- Нет.
- Тогда почему ждала?
- А я весь свой век жду, капитан.
- Чего?
- Всего. В детстве ждала, когда вырасту. Потом стала ждать хорошего мужа. Потом счастливой жизни. А потом пришел ты, капитан.
- И оборвал счастливую жизнь?
- Так я ее и не дождалась...
- Не надо, Клавдия Ивановна, связываться с такими, как механик.
- Не надо? - удивилась она и попробовала сесть прямо, отчего кресло трясуче зашаталось.
На ней был красный шелковый халат с широким поясом. На голове белела чалма, сооруженная, видимо, из мокрого полотенца. Бескровное лицо, еще белее этой чалмы, горело прозрачным огнем. Пустой взгляд не шел к ее осмысленным словам и казался отстраненным, словно прилетел издалека, с чистого осеннего неба.
- Капитан, а ты знаешь, что такое одиночество?
- Нет. - Он не знал его, денно и нощно вертясь среди людей.
- А ты знаешь, что в жизни самое страшное?
- Ну, страшного много. Смерть, болезнь, потеря близких...
- Нет, капитан. Есть и похуже. Самое страшное в жизни - это одиночество. А ты говоришь, капитан, что не надо мне путаться с механиком.
- Нашла с кем...
- Капитан, ты-то на меня не польстишься, а? - заговорила она вдруг игриво, причмокивая. - Полюби меня, а? Вот я перед тобой, одинокая, пьяная, в халатике, и никого нет, а? Э-э, капитан... Думаешь, я не знаю, что этот механик дерьмо на палочке? Знаю лучше тебя. А ты представь ночь. Я проснулась... Темно, тихо, за окном лес шумит, в Поселке собаки воют... А рядом никого. Страшно? Жутко, капитан, уж поверь. А если механик? Проснулась я, а рядом теплый человек. Не пьяница, не ханыга, не вор, а теплый и живой человек! Понимаешь ли меня, капитан?
- Нет.
- Чего ж так, капитан? Ты по службе обязан понимать...
- Не все греет, что теплое.
Инспектор не знал, что делать с ней. Вести ее в прокуратуру смысла не было - допрашивать в таком состоянии нельзя. Поговорить тут? Для себя, для справки. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме.
- Клавдия Ивановна, а я к тебе с поручением от механика.
- Неужель?
- Николай Николаевич во всем признался...
- Век не поверю.
- Но не помнит, сколько привез машин хлеба.
- Где ему...
- Просил у тебя узнать.
Сантанеева вскинула голову и попыталась сесть прямо. От ее движения тихо звякнули пустые бутылки, и волна алкогольного воздуха дошла до инспектора новым крепким духом.
- Мне теперь все до лампочки. Выпьем, а?
Она потянулась к непочатой бутылке, но инспектор мягко перехватил ее руку:
- Клавдия Ивановна, тебе лучше лечь.
- Капитан, капитан, улыбнитесь... Выпьем, и я завалюсь.
- Зачем пить с человеком, который лишил тебя счастья? - сказал инспектор, чтобы только сказать, убирая полные бутылки со стола подальше.
Сантанеева трудно поднялась, валко наплыла на него и положила дрожавшие руки ему на плечи. Инспектор увидел стеклянные зрачки, в которых отражался мерцавший на серванте хрусталь. Запах хороших духов, портвейна и зеленого лука лег на его лицо ощутимо.
- Эх, не обидно ли... Ты молодой, высокий, такой мужчинистый. И капитан, как ни говори. Не обидно, коли бы ты порешил мое счастье. А то ведь знаешь кто меня обделил?
- Знаю, сама.
- Нет, не сама, не механик и не ты, капитан... А маленькие, серенькие, с хвостиками.
Она сбросила руки с инспекторских плеч и растопыренными пальцами изобразила какие-то нетвердые фигурки, которые, видимо, изображали этих маленьких, сереньких, с хвостиками.
- Не понимаю, - сказал инспектор, отстраняясь.
Но теперь она схватила его за плечи, притянула к себе и выдохнула в лицо:
- А я покажу, где мое счастье...
Сантанеева оттолкнулась от инспектора, как от стены. Шатаясь, словно пол ходил под ней штормовой палубой, она подошла к ножке стола, у которого чернел посылочный ящик, не замеченный инспектором, и с силой наподдала его носком лакированной босоножки. Ящик взлетел, выбросив из своего нутра шлейф серой трухи.
- Что это? - ничего не понял инспектор, щурясь от затхлой пыли.
- Счастье мое, капитан! Ха-ха-ха! Десять тысяч рублей, съеденных мышами!
- Где же они лежали?
- В огороде были закопаны. Ни сотни, стервы, не оставили...
Она вновь пошла на инспектора по кривой линии, ошалело вращая пустыми глазами.
- Капитан, чего же ты не хохочешь, а?
- Не смешно.
- Как же, как же... У вас хлеб украли, а у меня мыши деньги сожрали. Не смешно ли?
- Хлеб-то, Клавдия Ивановна, крали незакономерно. А вот деньги, вырученные за этот хлеб...
- Капитан, а может, есть бог?
- Бога нет.
- Кто же у меня отобрал эти деньги?
- Бога нет, но есть справедливость, - твердо сказал инспектор, застегивая плащ. - Собирайся, Клавдия Ивановна...
В жизни и литературе есть вечные темы: рождение, смерть, любовь, материнство... И я добавлю - хлеб. О нем человечество всегда будет думать, и писатели всегда будут о нем писать.
Рябинин сидел рядом с шофером, дремотно уставившись в бегущий асфальт.
Отсыревшие, облетевшие тополя стали походить на осины. Разноокрашенные домики от воды как-то однотонно посерели. Из многих труб уже шел тоскливый дымок. Вода в лужах стояла так недвижно и холодно, что казалась прозрачным ледком. А ведь еще тепло. Или она чувствует приближение морозов, или она небо застывшее отражает, где, наверное, уже полно льда?..
Машина проскочила Поселок и свернула на шоссе к хлебозаводу.
Ждет ли его директор? Думает ли о своей судьбе или о судьбе завода? Рябинин вот думал всю дорогу...
Юристы говорят, что безмотивных преступлений не бывает. Психологи говорят, что безмотивные действия есть. Но если есть безмотивные поступки, то должны быть и безмотивные преступления. Какой же мотив у директора? Какой мотив у халатности? Какой мотив у лени? Да нет у них мотивов, кроме безволия. Ведь не хотел же директор зла для себя и завода. Тогда не прав ли Петельников - не судим ли мы этих людей за безволие?
Мысль Рябинина понеслась, как эта машина, свободно бежавшая по свободной дороге...
Давно известно, что причина преступности кроется в социальных условиях. Но судят личность, а не социальные условия. Тогда за что же? Она, личность, не виновата - условия виноваты. А что такое личность? Это человеческое сознание, через которое как бы пропустили социальные условия. За что же мы судим эту личность? Ага... За то, что она не противостояла отрицательным условиям. Знала про эти условия, должна была противостоять, а не противостояла, не справилась, потеряла свою личность. Но со всем плохим в нас мы справляемся при помощи воли. Опять прав инспектор. Выходит, что судим человека все-таки за безволие? Да что там судим... Вся наша жизнь, все плохое и хорошее, все зло и добро есть плоды воли или безволия. "На свете счастья нет, но есть покой и воля..." Может быть, под волей поэт разумел не физическую свободу и не свободу духа, а как раз волю как психическую категорию?..
Где-то работали институты, где-то трудились кафедры, где-то корпели лаборатории, раскладывая по полочкам умыслы и замыслы, действия и бездействия преступника. А он вот так, на ходу, меж дел...
Машина остановилась у проходной...
Рябинин часа два ходил по заводу, беседуя с экспертами и ревизорами. Потом он часа два допрашивал тех работниц, которых не успел допросить. И только после обеда, уже в плаще, уже с портфелем, вошел в директорский кабинет.
Гнездилов сидел за столом и писал, не подняв тяжелой головы.
- Здравствуйте, Юрий Никифорович.
- А я думал, что вы ко мне не зайдете, - улыбнулся директор следователю, как старому доброму знакомому, зашедшему сыграть партию в шахматы.
И Рябинина пронзила мысль, с которой начинали разговор почти все работники завода, - директор человек добрый. Да не добрый он, а добрейший; она, эта доброта, насыпана в него под завязку, как мука в мешок; та самая доброта, о которой стенали поэты, писали журналисты и говорили лекторы; та самая, которая, если копнуть поглубже, шла за чужой счет, за государственный; та самая доброта, которая, если копнуть, была вместо дела; та самая доброта, которая очень приятна в обхождении, но которую Рябинин с годами все больше и больше не терпел, как обратную сторону чьей-то лени и дури. Воля... Да зачем она директору - вместо нее доброта.
- Юрий Никифорович, вы мне нужны.
- К сожалению, уезжаю на совещание.
- На какое совещание?
- В главк. О выпуске диетических сортов хлеба.
- Юрий Никифорович, вы поедете со мной в. прокуратуру.
- Меня уже ведь допрашивали.
- Юрий Никифорович, я предъявлю вам обвинение.
- Может быть, потом я успею в главк?
Он не знает, что такое "предъявить обвинение"? Не понимает, что его отдают под суд?
- Юрий Никифорович, в главк вам больше не нужно.
- Как не нужно?
- Я отстраняю вас от работы.
- А вы имеете право?
- Да, с санкции прокурора.
Он медленно свинтил ручку, поправил галстук и принял какое-то напряженное выражение, словно Рябинин намеревался его фотографировать. Незаметные губы обиженно сморщились. Взгляд уперся в застекленный шкаф и утонул там в кипах старых бумаг. Залысины вдруг потеряли свой сытый блеск и мокро потемнели.
Рябинин смотрел на директора, ожидая от себя жалости - доброты своей ждал. Он ведь тоже человек мягкий. Что ему стоит оставить Гнездилова в этом кабинете? Пусть суд решает. Да и под суд можно не отдавать, найдя кучу смягчающих обстоятельств и веских причин. Пусть работает. Директор будет доволен. Довольны будут многие работники, привыкшие к его мягкости. Довольны будут в главке, избежав скандала. Вот только государство... Да те люди, которые сеют, убирают, мелют и возят зерно...
- Вы обвиняете меня в халатности?
- И в злоупотреблении служебным положением.
- Воровал же механик, не я...
- А вы ему не мешали.
- В сущности, это лишь халатность.
- Но вы отдали распоряжение выбрасывать порченый хлеб.
- Я же объяснял, что обстоятельства не позволяли его перерабатывать.
- Юрий Никифорович, обстоятельства всегда мешают и всем. Ценность человека измеряется его способностью противостоять обстоятельствам.
- Это все общие слова! - вскипел директор, - наконец-то вскипел.
До сих пор Рябинин стоял посреди кабинета, ожидая конца этого преждевременного разговора. Но, задетый вспышкой директора, он прошел к его столу и опустился на стул нетвердо, на минутку.
- Юрий Никифорович, а вы бы хотели остаться директором?
- Меня еще никто не снимал.
- Вы же не умеете руководить...
- Откуда вам это известно?
- Человек, у которого в квартире течет кран, не может руководить заводом.
- Опять общие слова.
- Юрий Никифорович, вы отдали завод на откуп жулику! Ваша доля в этой шайке...
- У меня не было доли, и я не знаю никакой шайки, - перебил директор.
- Шайку вы знаете, и доля была. Только ваша доля пошла на оплату вашего покоя!
Рябинин тоже распалился. Его задела не логика директора, не желание защититься и даже не самообольщение, а та нервность, от которой помокрели залысины. Разволновался-таки. Когда хлеб горел, залысины не отсыревали.
- И вы не видите разницы между мной и механиком?
- Вижу - с вас больше спросу.
- Механик воровал, а с меня спрос?
- Потому что вы руководитель, а это отягчающее обстоятельство.
- Так сказано в законе?
- Нет, - признался Рябинин, - так думаю я.
Эта мысль - должностное положение отягчает вину - пришла ему вдруг. Он только удивился, почему она раньше не приходила, эта простая и очевидная мысль. Ведь в основе ее лежит другая очевидная: кому много дано, с того много и спросится. Почему ж об этом не догадались те юристы, которые изучают преступность в институтах, на кафедрах? Он завтра же сядет за статью. Впрочем, почему же завтра, когда впереди ночь?
- Живешь, работаешь. Ради чего... - сказал директор вроде бы уже не следователю.
- Да, ради чего? - эхом спросил Рябинин.
- Живу, чтобы работать, - сказал директор неправду, ибо так не работают.
- А для чего работать?
- Как и все, ради куска хлеба.
- Сколько же вы уничтожили кусков государственного хлеба ради своего? - тихо спросил Рябинин.
- Жизнь человека, товарищ следователь, это цепь нереализованных возможностей...
Директор суетливо обежал кабинет взглядом и остановил его почему-то на счетах. Прощался с ними? И тогда внезапная жалость все-таки вытеснила из души следователя всю его многодневную злость и обдала какой-то мягкой и ненужной волной. Рябинин тоже уставился на простенькие счеты, словно отгадка этой волны была в них, под ними.
- Вы еще придете сдавать дела, - хрипло сказал он.
Волна отхлынула так же внезапно, словно ее и не было. Да и не должно быть этой теплой волны. К чему она? К прощению? Но он не судья. Да и хлеб сгорел не его, не личный, а государственный.
- По-моему, вы перегибаете палку, - вдруг опять ожил директор. - Я сейчас же позвоню юристу и спрошу...
- Это надо спрашивать не у юриста.
- А у кого же?
- У тех, кто этот хлеб вырастил.
Какой суд их будет судить? Районный, областной?.. Но я бы для них придумал суд другой... Собрал бы всех ленинградских блокадников, и пусть бы они судили.
ЦВЕТЫ НА ОКНАХ
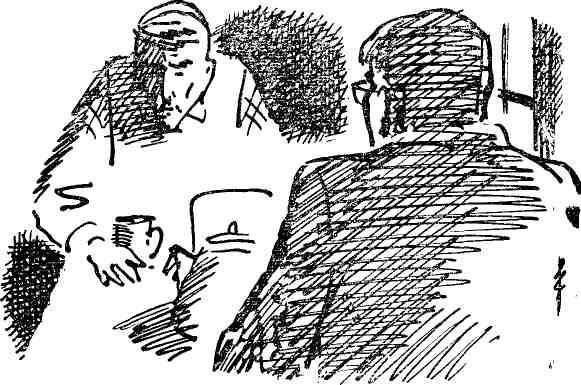
1
Как-то Рябинина спросили, почему авторы детективных повестей и фильмов обожают штампы. Сперва звонит телефон - ночью, ошалело, страшно...
Но был лишь вечер. Телефон позвонил негромко и даже уютно. Лида, доверчиво взяв трубку, сразу дрогнула бровями. Тогда трубку взял Рябинин и затих, прижимая ее к уху с ненужной силой, будто не мог понять рапортных слов дежурного.
Потом в обожаемых детективных штампах звучала тревога, а герой после телефонного шока начинал суматошиться...
Но Рябинин взялся за портфель почти спокойно. Даже электрической бритвой успел поводить по вдруг окрепшим щекам. Даже стакан чая успел выпить стоя. Вот Лида суматошилась, как в тех самых штампах, - бегала по квартире с теплыми носками, с бутербродами, с термосом... И суматошилась Иринка, пробуя запихнуть ему в портфель "Приключения Шерлока Холмса".
Затем у авторов детективов, в их любимых штампах, бежали автомобили с сиренами и нервными синими огоньками...
Но Рябинин ехал с шофером в тихой машине, которая шла осторожно - асфальт блестел микронной пленкой льда и казался отполированным. Включенный подогреватель дышал сухим теплом, мотор гудел ровно, мягкое сиденье качало истомно... И Рябинину захотелось ехать и ехать, нигде не останавливаясь и никуда не прибывая...
Он усмехнулся. Штампы - выезды на место происшествия - сочинили не авторы детективов; жизнь их придумала. Только почему она, жизнь, не научила его принимать эти выезды спокойно, как ежедневную работу? А ведь ждал их в любую минуту и выезжал чаще, чем ходил с Лидой в кино. Тогда чего он боится? Нервного напряжения, бессонных ночей, табачного дыма, головных болей, изжоги от случайной пищи?.. Или боится того бессилья, когда не знаешь, где искать и кого искать, когда от своей никчемности хочется все бросить и нестись, куда глаза глядят? Или волновался из-за оставленной работы - на три дня вперед вызваны свидетели, назначена трудоемкая экспертиза, сроки по двум делам кончаются?.. В воскресенье собрался с Лидой за город... На родительское собрание завтра приглашен... В конце концов, были у него привычки, пусть заурядные, но без которых его жизнь выцвела бы, - ощущать рядом Иринкино копошенье, слышать Лидину работу на кухне, рыться в книгах, непременно спать дома, принимать душ, пить перед сном чай...
Они ехали часа полтора - по городу, за городом. Поплутав безлюдными улицами поселка, шофер отыскал нужный дом по освещенным окнам и двум милицейским газикам, уткнувшимся в калитку, как телята носами. Рябинин ступил на мерзлую загородную почву.
Черное небо, хорошо здесь открытое, звездно опрокинулось над поселком. Рябинин вздохнул и нащупал закалиточную щеколду, стряхивая с себя истому, дорожные мысли и всякие опасения...
Петельников встретил его у порога и сразу повел на кухню. Знакомая картина - участковый у двери, тихие понятые, нетерпеливые эксперты - придала Рябинину ту энергию, которая так нужна на месте происшествия. Он бросил на пол уже новый, почти не свой, почти не близорукий взгляд...
У кухонного стола лежала на полу женщина.
- Анна Матвеевна Слежевская, - чуть слышно сказал Петельников, словно боясь ее разбудить. - Сорок три года, заведующая детским садом...
Рябинин бегло осмотрел кухню, вытащил бланк протокола и махнул рукой - работа началась. Он ползал по полу на коленях, мерил, высматривал, разговаривал с экспертами и слушал каждое слово Петельникова, информация которого сейчас была нужнее всего.
- В летнем домике сидит ее муж, Слежевский Олег Семенович, конструктор...
Кухня была стандартной, а следователи не любят стандартных вещей, ибо они обезличивают. Мебель, посуда, продукты, безделушки... Все описать не хватит никаких протоколов. Что было тут всегда, а что взялось после преступления; что раньше стояло так, а после убийства встало этак?.. Пуговица в углу... Год ли она тут лежит, преступник ли ее потерял? Скомканная газета... Хозяйка ли в ней мыло принесла, преступник ли свое орудие приволок?..
- У них двое взрослых ребят, восемнадцать лет и двадцать.
- Где они? - спросил Рябинин инспектора.
- Младший здесь, старший у приятеля в городе. Там и ночевал.
После описания позы трупа, одежды и всех примет тела судебно-медицинский эксперт сказал главное: убита одним ударом тупого орудия по голове. Рябинин, до сих пор избегавший смотреть в ее лицо, теперь глянул - оно было чистым и спокойным, словно женщина ничего не знала об этом ударе. Да она, видимо, и не знала - мгновенная смерть.
- Там еще есть работенка, - Петельников кивнул на дверь.