Нам оставалось до сеанса еще с полчаса, когда мы остановились в скверике возле кинотеатра, и я тогда спросила у ребят: почему их волнуют марки автомобилей, которых нет не только в нашем городке, но, возможно, и в Москве. "А как же, - сказали они мне, - надо знать уровень жизни". Вот тогда, Костенька, я попыталась им объяснить, что уровень жизни определяется не предметами обихода - они ведь год от году меняются, еще совсем недавно мы и не знали, что такое телевизор, - а уровнем сознания, уровнем мышления… И тогда они мне сказали: "Это все теория. А уровень жизни - это то, что можно пощупать руками…" Мы потом еще много об этом говорили, но я видела - они меня не понимают, а я их. Расстроило меня это, Костенька, ужасно. Я знаю: ты бы был, то посоветовал, как мне тут с ними… Конечно, если тебя не понимают ученики - дело поправимое, но если ты их не понимаешь… Ну, ничего, я еще постараюсь разобраться.
Есть небольшая новость, надеюсь, она не очень тебя расстроит… Заходила ко мне Оля, но не одна… Ну, ведь у вас, по-моему, так ничего и не сложилось по-настоящему. Она приехала на побывку с мужем и захотела показать ему городок и все достопримечательности его. Они ходили в крепость и на пруды, а погода стояла скверная, нанесло мокрого снега с дождем, вот они ко мне и заскочили по старому знакомству. Я им обрадовалась, напоила чаем. Оля вытянулась, похорошела; она работает переводчицей, а он у нее инженерит в НИИ. Он стеснялся и хотел быстрее уйти, а Оля расспрашивала о тебе. Я рассказала, где ты плаваешь и на каком судне. Она мне сказала: "Это очень здорово, но я бы никогда не смогла так долго ждать". Тут она права, Костенька, не каждая может ждать. Да ведь и не надо, чтоб каждая… Она хорошая девочка, Оля, но мы не будем о ней жалеть, верно?
На праздники получила радиограмму от Луки Ивановича, была рада.
Ну, а теперь о том, что просил ты выяснить. Мне порядком пришлось потрудиться. Тут два имени стоят рядом: Эдмонд Галлей - это довольно известный астроном, друг Ньютона, был директором Гринвичской обсерватории, а второй - Уильям Дампир. Вот он-то, Костенька, личность интересная и любопытная… Пират. Да какой! Из самых отпетых, из морских шакалов или гиен… Он с шайкой буканьеров нападал на корабли и города. Он был на Ямайке, у мыса Горн, ходил в Гвинею и Новую Голландию, он исколесил весь свет. Но у этого морского дьявола была страсть к наблюдениям. Он родился в глухой деревушке и был прирожденным натуралистом. Великий талант к ощущению природы. У него хватило ума вести дневник. Его высадили после крупной ссоры пираты на островах, он добрался на рыбачьем каноэ до Суматры, а оттуда уж до Англии. И привез с собой только одно богатство - записи. Сел, обработал их и опубликовал. К книге приложил карту ветровых циркуляций. Она стала основой для всех карт такого рода. Адмирал Барни написал о его трудах: "…Нелегко назвать имя мореплавателя или путешественника, который дал бы миру более полезные сведения, которому в такой мере были бы обязаны негоцианты и моряки и который подобного рода сведения изложил бы в столь ясной манере и столь четким стилем…" Успех его научных книг был потрясающим. И тогда адмиралтейство решило поставить Дампира во главе новой экспедиции к Австралии. Став капитаном, он ввел на судне железные пиратские законы. Боясь бунта, держал всех на мушке пистолета. Когда Дампир вернулся, его судили за жестокое обращение с матросами. Ему запретили служить на кораблях флота ее величества Анны. Он разобиделся и отправился в Тихий океан снова на пиратский промысел. И вот здесь произошла примечательная история. Дампир, сам того не зная, породил литературного героя, который жив и поныне и славен во многих стропах. Он высадил за провинности на необитаемый остров парусного мастера Александра Селькирка. А потом этот мастер рассказал свою историю Даниэлю Дефо, и появилась книга "Робинзон Крузо".
Когда я все это раскапывала, то мне пришла мысль: как все неожиданно бывает связано в этой жизни. Согласись, странная цепочка: пират, океанография, литературный герой. Наверное, если заняться всерьез исследованиями, то цепочку эту можно продолжить, еще неизвестно, куда она приведет. Недаром отец твой любил говорить: для моряка одно ясно - мир тесен… Тесен-то он тесен, но как мы далеко с тобой друг от друга! Пиши мне. А я жду не дождусь того часа, когда сядем с тобой вместе за стол и наговоримся от души. Не болей, дорогой ты мой. Всегда любящая тебя мама".
…Солнце поднялось над морем, косым лучом своим вошло в иллюминатор, пронзив золотисто-коричневый настой в стакане; чай, приготовленный Нестеровым, и впрямь был хорош, да и все в его каюте было хорошо: и душистый запах "кэпстона" от трубки, и то, что на стенах не висели дешевенькие вырезки из журналов, а в золотистой рамке небольшая и, видимо, дорогая миниатюрка, сделанная маслом в синих тонах, - ночная гавань, и на полке серьезные книги на английском.
Мы долго пили чай молча, и я наслаждался нарождающимся утром и тишиной; пройдет еще немного времени, и начнется беготня по палубам, захлопают двери кают, прозвучат команды, и пойдет по своему руслу пароходная жизнь.
Я допил чай, отодвинул стакан, хотел было поблагодарить Нестерова и уйти, как он спросил:
- Ты ведь знаешь ее мужа?
Это было так неожиданно - я даже вздрогнул, и сразу что-то нарушилось в каюте, в первую очередь изменился Нестеров; еще мгновение назад я видел перед собою тихого человека с доверчивым взглядом, а сейчас он смотрел на меня узкими, настороженными глазами, смотрел не мигая, и табачный дым не мешал ему.
- Знаю, - ответил я вызывающе. - Ну и что?
- Вы были друзьями?
- Мы и сейчас друзья.
- Ну, на таком расстоянии это трудно доказывать.
- Смотря кому.
- Возможно, - сказал Нестеров и прижал ладонью трубку, оставив только щепку меж пальцев, - так он делал всякий раз, когда трубка пригасала и нужно было усилить тягу дыма.
Он встал и прошелся по каюте, и я увидел - он нервничает… Значит, все то время, что я думал о доме, - именно эту мысль пробудил во мне прошедший мимо сухогруз, - Нестеров размышлял о своем: о Нине, о Леше. А мне-то казалось, когда мы сидели молча за чаем, что и мысли наши направлены в одно.
Я рассердился, будто меня обманули.
- Что ты хочешь знать о Леше? - спросил я.
- Она мне рассказывала о нем, - сказал Нестеров. - Но я хотел бы, чтобы и ты…
- Мне не нравится твой вопрос, Нестеров, - сказал я. - Это не мужской вопрос.
Он насторожился, посмотрел опять на меня прищуренным взглядом.
- Ты нас осуждаешь? - спросил он.
- Я просто в это не лезу, - сказал я. - Я ведь тебя ни о чем не спрашивал. Так?.. Вот если бы я тебя спросил, тогда бы ты имел право задавать вопросы. А сейчас ты ляпнул, как несерьезный человек. Тебе все ясно?
Он подумал и неожиданно улыбнулся; правда, это была слабая, косая улыбка, чуть раздвинувшая его волнистые губы.
- Ты прав, - сказал он.
- Конечно, - подтвердил я.
- Но я не знал, что ты бываешь таким резким.
- Ты и сейчас не знаешь, каким я бываю, - сказал я. - Могу и врезать…
Вот здесь он засмеялся и сказал:
- Ну, это здорово, Факир!
- Я смотрю, ты осчастливил себя, придумав эту дурацкую кличку. Жаль, что тебе не пришло до сих пор на ум: я ведь могу и рассчитаться.
- Если тебе не нравится, то я это снимаю. - Он пыхтел своей трубкой, улыбаясь, и меня это раздражало.
- Спасибо за чай, - сказал я. - Умеешь заваривать.
- Мы еще поговорим с тобой, - сказал он.
- Посмотрим, - сказал я.
По спикеру раздались сигналы, приглашающие на завтрак; тишина утра кончилась, начинался судовой день. Я вышел от Нестерова и, пока шел к кают-компании, думал: "Да, я в это не лезу… мне незачем в это лезть. Не мое это дело и не может быть моим. Но ведь кто-то и как-то должен помочь Леше?.."
И опять мне снились костры в ночи. Они горели на маленьких таинственных островах, где росли деревья, стоящие на корнях, как на ногах, и над ними, освещенный отблеском пламени, вознесся деревянный трубач, веселый к озорной, как маорийский божок Мауи, и трубил сигнал тревоги, а я не понимал, что же это за сигнал. Меня разбудил звонок будильника перед дневной вахтой, и когда я проснулся, то первая мысль, которая пришла в голову, была о Нестерове и Леше: "А ведь они здорово похожи друг на друга. Как же я раньше этого не замечал!.."
Джозеф и Анни сошли в Фримантле - это аванпорт Перта, столицы штата Западная Австралия. Стояло жаркое утро, горели цветы на клумбах, ярким оранжевым пламенем полыхали рождественские деревья, а над портом висела кургузая розовощекая фигура Деда-Мороза с мешком и воротником из ваты - скоро Новый год, здесь встречают его летом.
Мы прощались у трапа.
- Ну, будь здоров, Джозеф, - сказал я ему.
- И ты будь здоров, - сказал он.
А Анни приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку.
- Счастливо, кэп, - сказала она и засмеялась.
- Через пять месяцев у меня будет отпуск, - сказал я. - На целых сто дней отпуск. Приезжайте к нам в Россию, я покажу вам хорошие места.
- Спасибо, - сказал Джозеф. - Но это для нас пока еще дорого.
- Но, может быть, ты за это время достанешь свое золото.
- Оттуда я не возьму ни пенса. Это не мои деньги.
И я опять увидел, что он серьезен. Честно говоря, я никак не мог поверить в эту историю с кладом, но тут я подумал: а моя нет, это действительно все правда, ведь ходили же из Америки в Англию корабли с золотом и нападали на них островитяне, которым тогда это золото было ни к чему, ведь случалось такое, и отмечено в истории документами, а коль было…
- Ты обязательно достань этот клад, - сказал я Джозефу. - И напиши мне об этом. Мне очень нужно.
- Зачем? - спросила Анни.
- Чтоб навсегда убедиться, что сказки тоже быль.
Они оба рассмеялись, а мне стало грустно, оттого что мы расстаемся; честное слово, они мне оба понравились, и, наверное, если бы мы поплавали подольше, нам бы не было скучно.
- Ну, будь здоров, Джозеф, - снова сказал я.
- И ты будь здоров, - снова ответил он.
И Анни опять приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку… Они ушли, и прошло немного времени, как команда наша вышла в город. Мы поехали автобусом через чистенькие улицы Фримантла, пропахшие морем и цветами, и поднялись в гору, чтобы оттуда посмотреть на Перт. И город открылся перед нами новенькими домами на фоне моря, аркой большого моста через реку Лебединая, - говорят, будто здесь впервые и увидели черных австралийских лебедей, но теперь на реке их не было. На горе пахло скипидарным запахом эвкалипта и лежало толстое бревно; потом я узнал, что это реклама строительной фирмы. Мы медленно шли по холму, пока взгляд мой не остановился на памятнике. Я сразу понял, что это за памятник, потому что уже видел много таких… На бронзовой отливке меч разрубал свастику… И я тут же вспомнил, как Джозеф спросил: "Ты антифашист?"
В Высоцке, неподалеку от нашего дома, есть скверик, там тоже стоит памятник, похожий на этот, правда, не из такого богатого гранита, а сложен из кирпичей и оштукатурен; и тут же рядом с ним, - а не на кладбище, - несколько могил. Я ходил в школу мимо этого скверика и с некоторых пор часто стал сворачивать в него: подходил к бетонированной плите, над которой вздымался металлический столбик со звездой на конце. Я доставал из тайника веник, счищал с плиты слег, чтобы любой проходящий мог прочесть надпись, а весной я добывал золотую краску и выправлял ею буквы, и еще я тщательно чистил стекло; оно, правда, пожелтело, и надо было поставить другое, но я боялся, что при переделке могла разрушиться фотография, на которой был изображен худощавый человек с усами под курносым мальчишеским носом, и потому усы казались у него приклеенными, даже очень плохо приклеенными, как в самодеятельном театре, а глаза у него были озорные, и мерещилось: он вот-вот подмигнет. Это был мой дед, и на плите стояла надпись: "Илья Петрович Знобин, погиб, защищая Высоцк".
Так все и было на самом деле: деду шел тогда тридцатый год, и он был отставным старшим лейтенантом, потому что лишился ноги на финской войне; но когда немцы подходили к Высоцку, организовал его оборону…
Мама иногда мне говорила, что не может покинуть Высоцк, потому что здесь могилы всех ее родных.
У нас много в городе могил, а стоит выехать на большое шоссе, то там вдоль кювета обелиски, и на них иногда длинные списки тех, кто остался тут навсегда, пав от пули или осколка, большинству из них не было и двадцати…
Я смотрел на памятник в Перте, на нем тоже был длинный список не вернувшихся с войны домой, и вспомнил, что еще во многих местах видел такие памятники: и в Веллингтоне, и в Сингапуре, и на Маврикии. По всей земле стоят такие памятники… но больше всех их у нас, в России…
Я приходил в скверик, заглядывал в веселые глаза своего деда и разговаривал с ним.
Я родился, когда война давным-давно кончилась, но все равно она все время была со мной где-то рядом. Она приходила в детство, и я так много о ней слышал, что даже начинало казаться, будто сам что-то помню из нее… А Лука Иванович… Он любил после обеда посидеть в кают-компании, неторопливо попивать чай и вспоминать; лицо его делалось добродушным, хотя привычная хитрость не исчезала, лучики морщин собирались у серых с зелеными искрами глаз, и он начинал рассказывать, оглаживая ладонью скатерть:
- Я ее на "Новороссийске" встретил, была дочка судового механика… Ну, был пароход! С него ведь и начал. Совершил побег из дома на горе любимым родителям и нанялся матросом. Ходили Одесса - Херсон. На палубе - бабы с арбузами, в каютах - служащие и рабочий класс. А команда - все старые мариманы. Тельняшки да трубки. Весь белый свет исходили. Пьяницы, но трудяги. Тогда экипаж о каютах и не мечтал. Кубрик. Мне местечко - на нарах. А ушел я из дому в костюмчике, тогда в моде был коверкот. Сшили мне его по случаю окончания школы. Утром проснулся - костюмчика нет. Старенькая тельняшка и брючки. Боцман, волосатый рыжий мамонт, хрипит мне в ухо: "Извини, товарищ, костюмчик мы твой всей толпой пропили, а ты, как непьющий…" Вот так началось. А потом "Новороссийск" эвакуировал людей из Одессы… Эти канальи ничего не боялись, ни бомбежек, ни обстрела. Упала бомба на "Новороссийск", завернулась в матрацы в подшкиперской и не разорвалась. Нашелся один из мариманов, что минное дело знал. Обезвредил… Ну, все-таки я про Валю… Она была дочка механика. Нас под Очаковом накрыли немецкие самолеты, пароход стал тонуть. Механик посадил дочку на загривок и поплыл. Доплыл почти до берега. Там "Десна" стояла. И около самого берега механика пуля скосила. Морячки с "Десны" прыгнули в воду, спасли девочку. Потом пошла "Десна" в Поти, наткнулась на мину и начала тонуть. Суматоха. Крики. Про девочку забыли. А у "Десны" котлы были под парами. Вода как туда ворвалась - сразу взрыв! Девочку разрывной волной в воду почти у самого берега выбросило. Сколько там народу погибло, а она живая на берег ступила. Ну, а потом ее взяли на "Ингул". Я тогда на нем плавал. Хорошо Валю запомнил. Так как эта девочка уже столько пережила, ее вся команда любила, баловала. И вот попадаем мы под Туапсе под сильную бомбежку. Такой еще не переживали. Третьего механика, он у нас килограммов на сто двадцать был, столбняк от ужаса хватил, и он собой двери заклинил, из кубрика никто выйти не мог, в иллюминаторы вылезали. В щелки разнесло наш пароход. Нам на помощь "морские охотники" вышли. Тогда они фанерными были. Вот тебе и военный пароход. Их так и называли "свидетели смерти". Они нас из воды вытаскивали. И все мы видим - плавает наша Валя. В стороне, одна. Все кричат ей: "Валя, держись!" К ней "охотник" направился. Осталось ужо несколько метров… Руку протяни. И Валя у всех на виду камнем идет на дно. Вышли мы на берег, разожгли костры, стали сушиться. Кто-то ведро гнилой картошки принес из деревни. Ее испекли. Вспомнили всех, кто погиб, и Валю. Хотели уже спать укладываться. Вдруг у костра пламя метнулось. Смотрим - на дорожке Валя стоит. Я закричал - так испугался. Подумал - привиделось. А она подошла, села к костру и стала греться. Так она и не смогла объяснить, как возле нас оказалась… Ну, вот такая история. А вы, между прочим, ее знаете. Потому что сейчас работает она в бассейновой поликлинике регистратором… Ну да, Валентина Сергеевна. Мимо нее никто из вас не пройдет. Вот пойдите и спросите ее, как она трижды девочкой умирала, а жива… Что, все веселое про войну рассказываю? Ну, если вам от этой истории весело, то мне - нет… Все пароходы наши тогда сгорели. А сколько людей… красивых, молодых… Не стало флота на Черном море. Пришлось ехать на Дальний Восток… А про войну: все ею ранены, и в самое сердце. Вот так… - И долго потом сидел, молчал и оглаживал ладонью скатерть.
Джозеф спросил меня: "Ты антифашист?.." Так вот почему мне снились костры в ночи на маленьких таинственных островах и беспокойный трубач Мауи - я перед сном пытался представить, как, сжимая автоматы, шли на японские траншеи краснокожие солдаты. Я не знаю, как было это на Соломоновых островах, я только знаю по рассказам, как было на нашей земле, но Джозеф прав: даже маленькая война - все-таки война…
Я приходил поздно вечером в скверик, подходил к памятнику и спрашивал: "Тебе не холодно тут лежать, дед?" А в это же самое время выплывало из-за моря солнце, синяя волна билась о коралловый риф и разделялась на более мелкие волны. Они выплывали на белый прибрежный песок, оставляя на нем узорчатый след, а мимо отмелей по тропе от спящей деревни шла босиком по колючей траве женщина, несла молодую пальмовую ветвь; она шла к высокому деревянному идолу, который смотрел в мир зелеными глазами из перламутра. Женщина трепетно клала ветвь к подножию идола, опускалась на колени и начинала петь, и лились наивные и чистые слова скорби по безвинно ушедшим из этого мира. Голос ее был свеж, и слезы текли по старческим морщинам. Выше поднималось солнце в парном слюдяном трепете; собирались на работу земледельцы и рыбаки, и голос певицы напоминал им о прошлом, чтобы, начиная каждый новый день, они не забывали о нем… И кто-то еще, кроме меня, у дороги счищал снег с бетонной плиты и исправлял буквы, выбитые на ней.
Там, возле памятника в Перте, я впервые всерьез понял, как тесно связан меж собой мир.
Еще издали я определил: что-то произошло. Я увидел, как у Юры метнулись глаза за стеклами очков - на этот раз они были в костяной желтой оправе, как попытался он улыбнуться мне и Нине, когда мы поднимались по трапу, но вместо улыбки у него получилась гримаса и плечи заострились, и сам он ссутулился. Нина тоже заметила, что с ним творится неладное.
- Что с тобой, Юра? - спросила она.
- Я бы попросил при пассажирах… официально, - сказал он: длинный его палец задрожал, когда он поправлял им очки, тонкий нос покрылся потом, хотя солнце уже село и не было жары, воздух был сух и в меру прохладен.
Нина быстро обернулась, но на палубе никаких пассажиров не было.
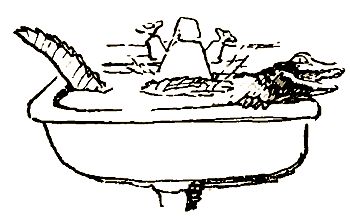
Часть вторая
ВРЕМЯ ПОТЕРЬ И ОТКРЫТИЙ
