Он затолкал верстак в дальний угол мастерской, повернулся спиной к дверям. Никто теперь не видел, что появлялось из-под рук мастера Соболева, Подсобник уносил готовые детали на сборку, там они смешивались с другими - пойди разбери, чья работа…
Сначала Корнею Лукичу было совестно, при каждом стуке двери он вздрагивал, закрывал собою верстак.
Потом - плюнул. В конце концов, если потребуется, он всегда покажет, на что способен…
И он стал гнать дверцы уже спокойно, просто, привычно. Он не боялся, что притупит глаз, растеряет прежние навыки. Никуда это не денется. А пока можно и так…
Иногда у него являлось желание поработать всерьез; руки сами собой задерживали инструмент, не хотели отпускать от себя грязное, шершавое дерево. Не сознавая, что делает, Соболев начинал выскабливать какой-нибудь уголок, на фанере проступали ясные линии волокон… Очнувшись, Корней Лукич отбрасывал дверцу в сторону, криво усмехался. Незачем, лишнее.
Так прошел год, потом другой. Из католической церкви артель перебралась в подходящее здание, появились новые мастера, даже мальчишки помаленьку научились работать и делали теперь целые гарнитуры.
Из всей старой продукции, выпускавшейся артелью, выжили только шкафы с цветами. Их давно собирались снять с производства, да все медлили, потому что задерживалась разработка образцов.
И Соболев продолжал фанеровать дверцы. Он не старался заполучить новой работы. Для чего? Шкафы делаются похуже, столы получше, но, в общем, одно и то же… Не слаще хрен редьки. Если главной цели нет, человеку безразлично, что делать. Кому-то надо фанеровать дверцы, кому-то надо лепить дрянные шкафы, ежели их заказывают. И Корней Лукич равнодушно принимался за очередную партию.
Наконец шкафы сняли с производства. И в это же время в мастерскую пришел Алешка Бакалин.
6
Собрав и загрунтовав столик, Алеша, пока выдался свободный час, пошел по цехам. Было интересно поглядеть, что делается в артели.
Еще в армии он раздумывал, куда пойти работать, и решил, что поступит на мебельную фабрику. После училища он два года служил в реставрационных мастерских и больше не хотел туда возвращаться. К музейным вещам у Алеши было странное, сложное отношение.
Да, он понимал, что все эти готические стулья, буллевские бюро красного дерева, позолоченные кресла рококо были произведениями искусства.
Но Алеша считал, что они плохо выполняли свое назначение. Это вещи скорей прислуживались, чем служили человеку.
В эпоху завоевательских походов, как денщики, они надевали военные мундиры, украшали себя оружием, мирная ручка дивана превращалась в львиную лапу. Пусть неудобно, казенно, зато - устрашающе.
Во времена разгульной роскоши вещи наряжались в золото и драгоценности, они вставали на тонкие копытца, - дряхлеющий золотой век словно качался на жиденьких ножках, молодясь и прикрашиваясь.
В смутные годы, в периоды упадка вещи принимали неясные, искаженные формы, - сквозь переплетение линий, судорожно скрученные завитки наружу рвались страх и бессилие…
Человеческая история, нравы, события накладывали на вещи свой отпечаток. Ничто не оставалось неизменным. Менялось представление о красоте, о пользе, удобстве. И Алеша давно уже пробовал выяснить эти закономерности, чтобы не работать вслепую.
Какой должна быть современная, новая мебель?
Ее черты только еще проступают, - они еле видны в нескладных алюминиевых креслах, в старомодных шкафах, наспех перекроенных на другой лад, в громоздких диванах и кроватях.
Но тем интересней сейчас работать! Надо самому что-то искать, пробовать, добиваться… И открыть людям новую красоту! Алеша жмурился даже, когда пытался представить себе это…
После тишины мастерской было непривычно войти в цех, полный рокота и мягкого гула. Звонко перещелкивались киянки, смеялись девчата-станочницы, - запудренные древесной пылью, в платках по самые брови, - в открытые окна задувал ветер, шевелил стружку на верстаках. Было здесь куда веселей, чем в пустой мастерской Соболева.
В соседнем цеху Алеша увидел мальчишек, собирающих гарнитуры. Они действовали необычно.
Для крупной мебели артель разработала типовые детали. Из них, как из детских кубиков, можно было сложить книжный шкаф, тумбочку, стол.
У Алешки рот расползся в улыбке, - вот где попробовать-то! Тыщи вариантов, тьма возможностей, только раскидывай мозгами…
Мальчишки работали неважно, Алеша это приметил сразу. Они мало знали, робко придерживались знакомых сочетаний…
- Дай-ка попробовать! - нетерпеливо сказал Алеша одному.
- Чего?
- Можно лучше состроить… Гляди!
У парнишки были младенчески синие глаза, одна бровь торчала круче другой.
- Ты откуда сорвался?
- Погоди, чудак человек, ты попробуй…
- Знаешь, - сказал парнишка, - беги отсюда мелкими шагами. Таких указчиков мы быстро заворачиваем…
Алеша не обиделся и ругаться не стал. Ладно… Завтра закончит пробу, все равно добьется, чтоб направили в этот цех. Только доказать надо, что имеет он право…
Обратно вернулся веселый, хотел поделиться новостью с Корнеем Лукичом. Но когда открыл дверь мастерской - замер.
Соболев ходил у его столика.
Низко нагибаясь, он рассматривал крышку, проводил по ней ладонью, будто ощупывал…
Алеша знал, что грубые пальцы Соболева умеют определить работу на ощупь. Едва заметная шероховатость, капелька клея под фанерой - и рука дрогнет, почувствует дефект.
Сколько раз, усмиряя невольную дрожь, следил за этими руками Алеша, когда был в училище.
Неспокойно стало и сейчас.
Но рука мастера двигалась плавно. Обошла кромки стола, соскользнула вниз… Соболев остановился неподвижно, и опять Алеше показалось, что он задумался.
Хлопнула отпущенная Алешей дверь. Соболев вздрогнул и, не обернувшись - боком, боком, - захромал к своему верстаку.
А потом быстро ушел, словно не хотел, чтобы Алеша начал разговор.
7
Когда Соболев учил своих мальчишек полировке, он рассказывал им историю одного старика краснодеревца.
Старик был великим искусником. Он полировал мебель так, что она казалась вырубленной из драгоценного камня.
Старик никогда не работал в больших городах. В городском воздухе много пыли, а пыль затуманивает полировку. Старик устроил себе мастерскую на берегу моря и работал только в безветренные дни, когда воздух был совсем чист.
На подбородке у старика торчала бородавка. Из нее росла волосинка, старческая седая волосинка. Старик ее не состригал.
Когда в отполированном дереве, как в зеркале, отражалось лицо старика, - он считал, что работа сделана наполовину. Если можно было разглядеть бородавку, - дело шло к концу. Но совсем вещь бывала готова лишь тогда, когда старик явственно различал отражение своего седого волоса.
Однажды старик несколько месяцев полировал крышку рояля. Подмастерья говорили, что пора шабашить, - лучшей полировки достичь нельзя. Но старик упрямо уходил в мастерскую: он еще не видел волоса и не мог позволить себе бросить работу недоделанной. Он полировал, не давая себе передышки; истекали дни за днями, а отражение не появлялось.
Старик не догадывался, что стал слепнуть.
Он умер в мастерской, так и не отойдя от верстака. Рояль, отполированный им, попал в музей.
Алеша помнил эту историю. И для него она была не просто забавным случаем. Он верил, что с такой же страстью работает его учитель, Корней Лукич. И также хотел поступать и он сам, Алеша, ученик мастера Соболева…
Столик был готов к полировке. Наступало самое трудное.
Алеша начисто выскоблил пол, смахнул пыль со стен и карнизов. Снял рабочую спецовку и остался в чистой рубашке.
Корней Лукич молча следил за этими приготовлениями. У него тоже были собраны первые столики, наступал черед полировать.
Алеша чувствовал, как внутри у него все напряглось, - будто взвелся курок. Но руки двигались быстро и четко.
Он обвернул тряпочкой комок ваты, сделал тампон величиной с мячик. Смочил его политурой, капнул масла. И скользящим, легким, почти неощутимым движением провел по крышке стола.
За тампоном тянулся влажный след. Он тотчас пропадал, растворялся. Но с деревом стали происходить удивительные превращения.
Крышка начала поблескивать, - она как бы погружалась под слой прозрачной родниковой воды.
И дерево под этим слоем вдруг стало глубоким. Краски сделались ярче, насыщенней. Просвечивало каждое волоконце, каждая прожилка, - дерево загоралось внутренним светом.
Алеше эти минуты всегда казались волшебными. Ну да, он знал законы полировки, он долго муштровал руку, добиваясь ее послушности. Но рождение мерцающего света в глубинах дерева было таким необъяснимым, что Алеша невольно боялся - вот дрогнет рука и чудо исчезнет, от неловкого движения погаснет таинственный огонь.
Он увлекся до того, что позабыл про обеденный перерыв. Корней Лукич сегодня тоже не уходил из мастерской, - работал быстро, молча, словно старался перегнать Алешу.
Только вечером, услышав сигнальный звонок, Алеша в последний раз провел рукой:
- На сегодня хватит…
- Ты меня не жди, - отозвался из угла Соболев. - Ступай, а я часок сверхурочно побуду.
- Вы же устали, Корней Лукич!
- У тебя проба, а у меня - норма.
Алеша мельком увидел, что у Соболева заполированы два столика. Неужели по норме полагается больше? Хитрит чего-то Корней Лукич…
Алеша попрощался и вышел. Натруженная рука подергивалась, будто еще не могла остановиться, было приятно это чувствовать, шевелить затекшими пальцами… Перед глазами все еще скользил тампон, светилось дерево…
Алеша уже знал теперь, что выдержал испытание. Полировка не закончена, ей требуется дать сушку, потом пройтись еще разок… Но Алеша видел столик готовым.
На крышке будто лежит тонкое стекло. Блики света отражаются в подстолье и ножках. И кажется, что столик насквозь прозрачен, как у того старика, что работал на морском берегу. Или как у мастера Соболева.
8
Едва Алеша ушел, как Соболев вытащил поближе к свету два своих столика. Потом он принес Алешин столик и поставил рядом. Корней Лукич уже чувствовал, что произошло, но хотел увидеть воочию, удостовериться до конца.
Три столика рядом.
…Поначалу Корней Лукич не обрадовался, получив заготовки. Для кого-то этот заказ мог показаться интересным, а Соболеву было все равно, - он видывал не такое…
Но задуман столик был неплохо - из ореха, полированный, с наборной крышкой.
И руки мастера Соболева, стосковавшиеся по настоящему делу, не смогли удержаться. Они вцепились в дерево, они ласкали его и рвали, они боялись отпустить его, - опять как тогда, как раньше…
А начав работать всерьез, Корней Лукич понял, что все эти годы, пока лепил дверцы, он ждал вот такого часа. Как он мог жить без яростного труда, без опьянения запахами, звуками, красками дерева, без настоящей радости, которая приходит с по́том, с мозолями, с кровью на пальцах?
Он работал неистово, бешено, как никогда раньше. Будто все эти годы нарастала жажда - и он дорвался наконец, почти захлебывается…
Еще не кончив одной операции, он хватался за следующую, из-за этого ошибался, не успевал вспомнить старые, верные приемы. Опять исчезло время, отодвинулся окружающий мир, - в груди Соболева будто напряглась и звенела струна, все тоньше, чище, томительней…
И где-то на середине работы ему стало страшно.
Он почувствовал, что ошибается слишком часто и слишком опасно. Да, руки сохранили прежние навыки, но вместе с ними сохранилась и та небрежность, топорность, что успела привиться за последние годы. Она оставляла недобрые следы. И там, где соскальзывала стамеска, срывался нож, царапал наждак, - уже ничего нельзя было поправить.
Соболев понимал это, но все равно бросался переделывать, что-то замазывать, - выходило еще хуже.
И вот - три столика рядом.
В работе Алеши Корней Лукич мог бы найти слабинки. Но только он, больше никто. Каждая деталь выверена, подогнана, отделана с любовью. Полировка тонка и чиста, дерево под ней кажется бездонным.
А рядом - столики Соболева. И всякий может увидеть, как срывалась рука мастера: вот пятна, вот грязные щели, наверху мутный слой полировки, отдающий жирной синевой…
Соболев стоял, смотрел. Потом поднял палку - и хрястнул наотмашь по одной крышке, другой. И было слышно, как стонет расколотое дерево.
Спутники
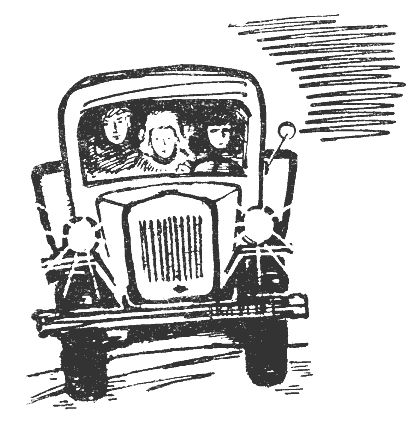
За время долгой своей сибирской командировки мне всяко доводилось путешествовать - и на крыльях, и на колесах, и верхом. Но этот день выдался совсем необычным: я, кажется, сменил чуть ли не все виды транспорта.
Из глубинного леспромхоза утром вылетел на стрекочущем, как сорока, бойком вертолетике, затем пересел на гусеничный вездеход, потом тащился по льду реки на просторнейших, как волейбольная площадка, тракторных санях, затем трясся в фанерном кузове кинопередвижки, где побрякивали, как консервы, помятые коробки фильмов и где нельзя было даже закурить для обогрева.
Я надеялся, что, выбравшись к ЛЭПу - строящейся электролинии, - я быстро поймаю попутную машину и к вечеру попаду в город. Там у меня были дела в конторе правого берега, и я очень спешил.
Но, как выяснилось, в тот же день горком устраивал совещание молодых строителей, и все мало-мальски свободные машины ушли в город с делегатами. Больше попутных рейсов не предвиделось.
Чтоб не ждать понапрасну, я решил продвигаться хотя бы от участка к участку. Подвертывался бензовоз - ехал на бензовозе, попадалась ремонтная летучка - садился в нее. Наконец уже в сумерки, когда оставалось до города километров семьдесят, я накрепко застрял на последнем участке. Ни один механизм, способный самостоятельно двигаться, дальше не шел…
Сильно морозило; над вершинами лиственниц проступили робкие звезды и высунулся краешек белой, ноздреватой луны. Снег стеклянно хрустел и повизгивал под ногами. От стылого воздуха ломило зубы, и мундштук папиросы, вынутый изо рта, сразу обмерзал до костяной твердости.
Невдалеке зажглись фонари бетонного заводика. Можно было завернуть туда - погреться возле костров, но я постеснялся. Судя по долетавшим голосам, произошла там какая-то неполадка - кажется, водогрей испортился, - и девчата-работницы суетились и ругали мастера. Как им помочь, я не знал, а быть посторонним зрителем в такой момент не хотелось. Я вышагивал до перекрестка и обратно, ежился, стучал кулаком о кулак и надувал онемевшие щеки. Я уже отчаялся и потерял последнюю надежду.
Меж деревьев блеснули дымные фары, выскочил на дорогу самосвал, перебирая толстыми рубчатыми лапами. Я равнодушно проводил его взглядом. Уже несколько таких самосвалов побывало у заводика; они возили бетон куда-то в глубь тайги, - видимо, на трассу.
Шофер в кепочке и расстегнутом ватнике соскочил с подножки, закурил, огляделся.
- Вы чего это, милые, - сказал он девчатам, - себе законный отдых рубите? Кончать пора, последний рейс, а вы тут копаетесь, возитесь…
Девчата обступили его, наперебой заговорили о своей беде, а он смотрел им в лица и улыбался, - так, бывает, старший брат с улыбкой выслушивает жалобы младшеньких.
- Ясно, - сказал он, дождавшись, когда все умолкли. - Зиночка, тут где-то запасной шланг лежал, разыщи. Поглядим, что за авария такая… А ты, Лида, марш одеваться. Я бетон скину, сразу и поедем.
Одна из девушек отступила:
- Ой, Костя, я не пойду. Я просто не знаю…
- Мы же договорились.
- Да я не знаю. Я ему еще не сказала.
- Как не сказала?!
- Ну, так вот… Не могу я сразу.
- Тогда сегодня скажешь. Остановимся по пути, и скажешь. И не спорь, не спорь, марш одеваться.
Девушка повернулась и пошла к дороге, а шофер взял кусок шланга и полез по деревянной лесенке к бетономешалкам. Через несколько минут, охнув, загудел мотор, медленное облако пара, крутого, как тесто, поднялось в воздух. Заводик ожил.
Шофер вернулся к машине, обстучал скаты. Обычно к концу смены шоферы злые, хмурые, что, впрочем, не мудрено после дня тяжелой работы. А этот был весел, доволен, даже насвистывал что-то беспечно. Заметив меня, он тотчас полюбопытствовал:
- Попутную ждете? В город?
- Да.
- А сами кто будете?
Я объяснил.
- Вот что, - сказал он после короткого раздумья, - я вас третьим возьму в кабину. Иначе вам тут до рассвета куковать.
- А вы собираетесь в город?!
- Именно. Есть там дела. Сейчас отвезу бетон на пикет, вернусь и заберу и вас, и Лиду. Вот эту девушку, что переодеваться пошла.
- Спасибо, - заговорил я, не веря собственной удаче. - Вот спасибо! Не знаю, как и благодарить…
- Пустяки, чего там. Свои люди.
Он опять улыбнулся, и вышло это так ясно, легко и заразительно, что я тоже заулыбался, растягивая непослушные от мороза губы.
До чего же приятно было спустя полчаса втиснуться в пахнущую бензином и клеенкой кабину, подоткнуть под себя пальто, стянув зубами перчатки, растереть ноющие пальцы, услышать картавую скороговорку мотора и ощутить всем телом ту живую, бодрую, неторопливую дрожь, какая бывает у набирающей ход машины…
Отопитель нагонял сухое тепло. Начинавшие было индеветь стекла быстро оттаяли, и только на переднем мерцал ровный полукруг, натертый "дворником". Освещенная фарами, расширяясь, текла под колеса чистая зимняя дорога - с восковым глянцем в наезженных колеях, с телеграфными столбами на обочине, то высокими, то наполовину завязшими в сугробах, с поникшими голыми ветвями лиственниц, проносящихся впритирку над кабиной.
- Слышь, Лида, - сказал шофер. - Может, мне с ним поговорить?
- Ой, не надо, - вполголоса ответила девушка.
Она сидела напряженная, глядя прямо перед собой. Когда, переодевшись, она вернулась и вместе со мной стала ждать машину, я едва узнал ее. Среди подружек-бетонщиц, в своем ватнике и платке, она казалась очень молоденькой, маленькой, а теперь, в городском пальто и пыжиковой шапке, умытая, побледневшая, выглядела гораздо взрослей. Взрослым, серьезным было и выражение ее лица - сдвинуты широкие с рыжинкой брови, прорезалась между ними складка, опаленная морозом губа прикушена.
- Все боишься? - спросил шофер.
- Да нет, - сказала она, помедлив. - Просто думаю.
- В дороге думается хорошо, - сказал он. - Все равно: пешком или едешь на чем. Верно?
- Ага.
- Мыслям как-то свободней…
Под колесами простукал бревенчатый мостик, забарабанили по днищу кабины ледышки. Лида испуганно поджала ноги. Мы засмеялись, переглянувшись.
- Недавно у нас тоже лекция была, - сказал шофер. - И я цифры запомнил. Интересно… - он посмотрел на Лиду, потом на меня. - Вот живет сейчас на земле три миллиарда человек, да?
- Почти три, - сказал я. - Без малого.
- Ну, почти три. А в две тысячи пятидесятом году будет на земле уже восемь миллиардов. Представляете - восемь! И будут эти люди совсем уже новые…
- Как - новые? - не поняла Лида.