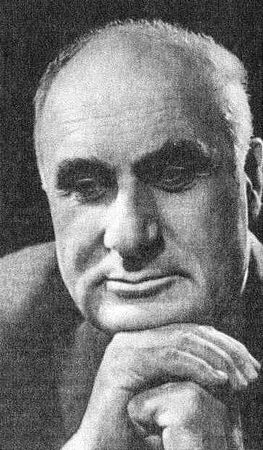
Кончилось путешествие, Абашидзе вернулся домой. Наверное, уже возникали в сознании фрагменты будущей книги. Но объединить их между собой, создать новый образ Шота Руставели было труднее. Наш век - век познания. Мы не верим в поэтический вымысел, если он вступает в противоречие с исторической истиной. Читатель готов следить за свободной и остроумной трактовкой события. Но не поверит поэту, который скажет, что в феврале 1837 года не Дантес убил Пушкина, а Пушкин - Дантеса; что Бараташвили скончался в преклонных годах и не писал "Синий цвет". Если историческую концепцию должен иметь ученый, то в не меньшей мере нужна она и поэту. Раз Абашидзе хотел, чтобы читатель не сомневался в истине его слов, надо было сделать открытие и, соединив науку с поэзией, выступить в роли и ученого и поэта. А для этого следовало проверить возникшую еще в XVIII веке версию, будто бы последние годы жизни Руставели провел в Иерусалиме, в грузинском Крестовом монастыре, там умер и там похоронен. И будто бы на одной из монастырских колонн сохранился его портрет. В 1845 году в Палестине побывал профессор Петербургского университета Николай Чубинов (Чубинашвили) и видел этот портрет. Однако в конце прошлого века ученые его не нашли, и попытки обнаружить его не привели ни к чему.
Ж вот в 1960 году Академия наук Грузии решает исследовать этот вопрос и командирует в Иерусалим трех филологов - академиков И. Абашидзе, А. Шанидзе и Г. Церетели.
Портрет Руставели оказался закрашенным. После долгих стараний краску удалось снять. И глазам ученых предстало изображение седобородого старца в багряной ризе, коленопреклоненного в молитвенной позе, с надписью "Руставели". Кроме того, возле фрески читаются и другие слова: "Расписавшему это Шоте да простит бог. Аминь".
Что это? Подлинное изображение XIII столетия? Или оно относится к более поздней поре? В свое время стены монастыря были покрыты изображениями грузинских царей, грузинских писателей и художников, помогавших строить и содержать грузинский храм в Палестине. Но в XVII веке монастырь реставрировался.
Теперь, когда уже изучены все материалы, некоторые из грузинских ученых склоняются к тому, что фреска, изображающая Руставели, относится к XIII столетию. И. Абашидзе, А. Шанидзе и Г. Церетели датируют ее более поздним временем, считая, что фреска и надпись либо восстановлены в XVII веке, либо тогда же и созданы, но на основании сведений достоверных. И ни у кого не возникает сомнения, что в надписи идет речь о Шота Руставели, что фреска изображает его, - следовательно, иерусалимским монахом он был.
Лично мне кажется, что фреска восходит к прижизненному изображению. Меня на эту мысль наводят размеры изображения Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, фигура Руставели помещена на уровне их сандалий и намеренно унижена этими малыми размерами и положением возле их ног. Трудно допустить, что художник-грузин в XVII веке решился бы так демонстративно умалить величайшего поэта отчизны. Вернее всего, это сделано по собственной воле того, кто славе поэта и одного из виднейших мужей грузинского государства предпочел участь схимника в палестинском монастыре, - другими словами, по воле самого Руставели. А быть может, даже его рукой?
Фреска в Крестовом монастыре послужила Абашидзе ключом к постижению образа Руставели. Вместо апокрифического рисунка, изготовленного в прошлом веке тифлисским фотографом Райнишвили, который представил поэта с черной бородкой, в барашковой шапке с пером, Абашидзе увидел скорбный лик иссохшего старца. И, оживляя воображением это лицо, эту фигуру, стараясь постигнуть трагические события, сокрушившие жизнь Руставели, он создал вторую тетрадь стихов - "Палестина, Палестина". В нее входят семь монологов, произнесенных голосом Руставели, который в разное время - утром, днем, вечером - Абашидзе слышал у стен монастыря и в оливковом саду, у колокольни и в белой келье, у подножия холма Катамона и под сводами храма в сумерках. Ничтожной была бы попытка пересказать прозой стихи. Замечу только, что, решившись говорить от лица гения, Абашидзе с таким вдохновением передал его спор с богом, его внутреннюю борьбу - смирения со страстью, аскетического ограничения с любовью к жизни, к творчеству, к грузинской земле, к бессмертной грузинской речи, что эту новую книгу о Руставели нужно считать замечательным открытием не только в грузинской поэзии. Это - открытие, принципиально важное для всей советской литературы. Абашидзе удалось то, что получается крайне редко, еще реже в стихах, - образ поэта, и притом поэта великого. Ибо когда Лермонтов или Пушкин начинают говорить стихами своих биографов, тут нас обычно оставляет доверие к их речам и поступкам (не касаюсь произведений, в которых наши современники передают свое отношение к поэтам прошлых времен, к их страданиям и великим победам!). Каким же даром перевоплощения обладает этот Ираклий, если решается говорить уже не от лица павшего воина, а устами величайшего из грузинских поэтов! Разумеется, он не подражает стиху Руставели. Зачем? Его голос Абашидзе слышал внутри себя и передает именно так, как услышал. Это вживание в руставелевский образ не предполагает использования шаири - формы стиха, которой написан "Витязь в тигровой шкуре". Руставели преломлен тут чрез сознание поэта нашего времени, и в этом как бы еще одно доказательство его сопричастности нашей эпохе. И новое проявление таланта Ираклия Абашидзе, которому удалось найти новую форму - достоверную и условную, точную и свободную. Это большая победа!
Высокое искусство не в подделке, не в подражании неразличимом. Оно в умении стать похожим, не будучи похожим, не обмануть, но вовлечь в процесс узнавания. У стиха. Абашидзе - современные фактура и форма. И нас радует, что голос Руставели облечен в этот стих, ибо сегодня Руставели писал бы иначе, чем прежде, и был бы современным не только по сути, но и по форме. Я верю, что Абашидзе прочел его мысль, когда слышу голос, доходящий до нас из глуби веков:
О язык мой!
Ты - дар.
Ты стремленье и взлет.
Ты - сцепленье наших скал,
наших глыб и камней.
Исцеленье наших дней
от недугов…
Дыхание наших знамен,
ты - родной,
нестареющий наш и старинный,
наш единый.
Ничем
ты не можешь быть здесь заменен,
ты остался один у меня
в час кончины.
Мы слышим скорбный голос поэта, мудреца, человека, опередившего свое время, обращенного в будущее, отдавшего жар своей мысли и сердца родине, человечеству и умирающего вдали от грузинской земли в величайшем трагическом одиночестве. И слышим взволнованный голос Ираклия, который, обращаясь к тени поэта, признается, что прибыл в Палестину, чтобы отыскать его след и весть о нем - о Шота - понести в Грузию. Ибо ждет Вардзия, томятся в неизвестности Самцхе и Тмогви, веси и грады Месхети; вести этой ждут ласточки над Курой!
Посланник многих поколений грузин, он пришел в Иерусалим, чтобы принять последний вздох Руставели. И как же ему повезло, Ираклию Абашидзе! Он нашел неизвестную надпись на грузинском пергаменте Палестины, надпись, поведавшую ему о последних минутах Шота. Эти мгновенья сохранил для истории безвестный монах. И теперь мы читаем о том, как собратья Шота в его смертный час обращались к нему, умоляли:
Пускай твое последнее реченье не просто канет
в пустоту и тьму,
А принесет
благое облегченье истерзанному сердцу
твоему,
Которое безбожно и жестоко
гонимо по земле издалека.
Не пожелал…
И лишь прищурил око, слезами
увлажненное слегка.
Они - собратья - принесли ему синюю ветвь оливы из Грузии:
Пусть эта ветвь, как весть
долины отчей целебная,
падет тебе на грудь.
Не пожелал…
И лишь прищурил очи, слезами
увлажненные чуть-чуть.
Они раскрыли перед ним Иоанна Дамаскина - страницу, которую он сам заложил когда-то:
О загляни в нее - и нестерпимо
растравленные
раны отболят.
Не соизволил…
и куда-то мимо метнул
слезами увлажненный взгляд.
Признаемся сразу! Не было такой рукописи! Она порождена вдохновением Ираклия Абашидзе. Но в том-то и секрет настоящей поэзии, что ты пропускаешь мгновенье, когда ее крылья оторвали тебя от представлений обыденных, когда тебя оставляют сомнения и становятся ненужными строгие доказательства, ибо начинаешь верить поэту безоговорочно, вместе с его стихом подымаясь все выше и выше и допуская, что так и было и что он знает это лучше тебя. Ибо хотя и существует граница между познанием и поэтической интуицией, но не успеваешь подметить ее, как в полете, когда земля начинает уходить вниз, а ты даже и не почувствовал, как от нее оторвался. Стих Абашидзе кажется достовернее документа. Я верю в совершившееся перевоплощение поэта в образ другого поэта, верю в эту способность полностью стать другим и при этом до конца оставаться самим собою. Верю и повинуюсь! Однако великолепное это создание так и осталось бы достоянием по преимуществу только грузинских читателей, а перед другими предстало бы отражение в строчках более или менее точных, когда за дело первоклассного мастера не взялся бы другой замечательный мастер. "По следам Руставели" перевел Александр Межиров - прекрасный русский поэт, поэт мысли и чувства, современный, глубокий, смелый, обладающий высоким даром перевоплощаться в творчество поэтов, близких ему по духу, и совершать во имя творческой дружбы настоящие подвиги. Трагическая судьба и бессмертие, безвестность и слава в веках, поэзия, ставшая частью народа, влиявшая на его язык и характер, история и современность в их сложных взаимопроникновениях - у Абашидзе эти темы не ограничены образом Руставели, а только выражены через него. Эта тема поэзии и поэта увлекла Межирова. И он кинулся в новое испытание своего поэтического таланта. И снова вышел прекрасным. Оттого и явилась на свет книга, напечатанная по-русски, поражающая двойным совершенством - и оригинала и перевода. И перевоплощением двойным - Ираклия Абашидзе в характер и дух Руставели и Межирова сквозь поэзию Абашидзе в этот новый образ Шота. Вот почему и по-русски так великолепны поэтические находки, поражающие точностью, смелостью; песенная простота, облекающая глубокую мысль; вот почему так потрясает эта трагедия, разрешающаяся в эпическом движении сюжета, в умиротворяющей концовке, где Руставели уходит из мира, верный себе самому, верный своему будущему:
Когда-то здесь
за истиной по следу он шел,
предвестьем истины томим.
С кем спорил он?
С кем затевал беседу?!
Не сомневался.
Веровал.
Аминь.
ОДЕРЖИМЫЙ ПАФОСОМ ДРУЖБЫ
Когда хочу вспомнить лучшее, что я в своей жизни видел, и прежде всего в молодые годы свои, - среди тех, кто всех ближе в воображении, среди лиц самых дорогих, сказочных и прекрасных возникает перед глазами Тициан Табидзе - никогда не тускнеющий его образ, не застывающие движения - никогда не портрет, а живой Тициан, в неповторимом контрапункте его движений, жестов, дыхания…
У него - огромные светлые глаза, умные, добрые и дышащие добротой губы. Ровно подстриженная челка на лбу и фигура, элегантная в своей тучности, которую свободно драпирует белая блуза, придают ему сходство с римлянином. И в то же время - он грузин в высшем выражении его интеллигентности и артистизма.
Он пылок в разговоре, и медлителен в ритме больших шагов, и ходит вразвалку. Он полон внимания и - в то же время - задумчив. Даже мечтателен. Рука с папиросой между длинными нежными пальцами изогнута в той великолепной свободе, какая бывает только у спящего. Веки прикрывают глаза медленно, а речь быстра, даже тороплива, пожалуй… И заразительный смех - чистый, веселый, нечаянный, с придыханием заядлого курильщика.
Он всегда является в моих воспоминаниях, о чем бы я ни думал - о Тбилиси, о Ленинграде 30-х годов, о Москво. И всегда неотрывно от людей, которых любит и предан им, И в еще большей мере любим и отмечен ими. Вспоминало молодого Гоглу Леонидзе - и Тициан. Мицишвили - опять Тициан. Валериана Гаприндашвили, Шаншиашвили Сандро, Серго Клдиашвили, Шалву Апхаидзе вспомнишь - и воспоминания каждый раз приводят тебя к Тициану… Тициан - когда слышишь имена Наты Вачнадзе, Коли Шенгелая, Лэли Джапаридзе, Симона Чиковани тех лет, Геронтия Кикодзе… Но прежде всего неотделим он от образов своей жены, друга и вдохновительницы Нины и друга из друзей Паоло Яшвили.
Он всегда с людьми и на людях. Всегда одержимый пафосом дружбы, нежным вниманием к другим, потрясающей добротой, душевной щедростью, вниманием, не стоящим ему никаких усилий!
Какое интересное было время! Люди какие! И Тициан среди них, не похожий ни на кого в оригинальном обличии, которое так же органически стало выражением его духа, как его имя, как стихи. И всегда живущий в настоящем с вдохновенной мыслью о будущем и о прошлом. Никогда не расстающийся с образами Важа-Пшавела, Рембо, Бодлера, Тютчева, Блока…
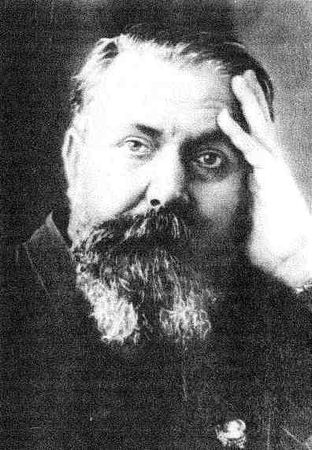
Я помню, в Ленинграде, в гостинице "Европейской", в номер Тициана Табидзе - я уже об этом упоминал - пришли Борис Леонидович Пастернак с Зинаидою Николаевной - они только что поженились, и я тогда впервые их увидал. Зашел разговор о Тынянове. Они не были с ним знакомы. И я но их просьбе Тынянову позвонил и передал трубку Тициану. И Тынянов пришел - он жил недалеко. И помню разговор увлекательный, торопливый о Грузии, где Тынянов еще не бывал, хотя роман о Вазир-Мухтаре написан. И Пастернак - с острыми впечатлениями о Грузии, влюбленный в нее. В этот разговор - стремительный, восхищенный - вплетаются и Тютчев, и Баратынский, и Блок, и Иннокентий Анненский, Белый, Мандельштам, Хлебников, Маяковский… И стихи Пастернака. И образ Пастернака - живой, с интонациями, гудением растянутых слов, певучей речью. И образ Тициана - по невнятно-прекрасным цитатам, по стремительно произнесенным словам, вдохновенным аркам ассоциаций… Помню, как потом долго и неотступно вспоминал Тициана Тынянов и, Тынянова - Тициан. Словно они нашли друг друга и это было заранее написано им на роду.
В тот же приезд Тициана я, по его просьбе, созвонился с Анной Андреевной Ахматовой: они еще не знакомы. И мы пошли на Фонтанку, к ней. И разговор о поэзии затевается у них, как у старых знакомых, - имена, поэтические события, сборники, строчки! Вся история символизма и акмеизма в контурах укладывается в четверть часа, и направление обоих в поэзии скорректировано разговором. Они оба - одной поэтической культуры. И ассоциации - общие. И назавтра Ахматова, величавая и простая, которую удивить не так-то легко, - в удивлении от Тициановых знаний поэзии и поэтов XX века.
В тот же приезд - поездка на дачу к Алексею Толстому, И Тициан очаровывает его с первого взгляда. В разговоре кипит история. Сведения о Петре из Устрялова, цитаты из писем Петра, которые скандирует Алексей Николаевич, характеристики персонажей, которые он сочиняет со щедростью, позволяющей судить о его натуре и вкусах, - все ложится на Тицианово широкое понимание истории, хотя Тициан не историк. Но и тут обнаруживает тончайшее понимание - не гелертерские познания, растущие на грядках цитат, - а понимание сущности, смысла, живого ощущения исторического процесса. И вновь вдохновенен и артистичен.
Помню его в Москве, в гостях у Леонова. Не однажды. И новая грань Тициана. Новые свойства характера собеседников. Леонов - во власти грузинских воспоминаний. Тициан - в кругу ассоциаций Леонова, его отношения к жизни, к сюжету, к слову, к самому процессу работы. И то, как Тициан слушает и ведет разговор, обнаруживает в нем еще не изведанные аспекты характера.
В Тбилиси приехал пушкинист Мстислав Александрович Цявловский с женой - тоже пушкинисткой, Татьяной Григорьевной, Мой отец приглашает их в гости - к нам, на Саперную, 7, на Дзнеладзе. Приглашены Тициан и Паоло, Цявловский - член Пушкинского юбилейного комитета. И разговор заходит о юбилее, о переводах, о Пушкине. И я вижу вдохновенного пушкиниста Тициана Табидзе, поражающего Цявловских познаниями, пониманием, любовью к Пушкину.
Помню, Эйхенбаум Борис Михайлович, известный ленинградский литературовед, приехал в Тбилиси, остановился у нас. Тициан пришел к нам в тот же час, чтобы познакомиться с ним. В первых же фразах, при упоминании - "молодой редакции" "Москвитянина" - журнала 50-х годов прошлого века - Тициан назвал имя Бориса Алмазова, мало кому известного даже среди историков русской литературы. Эйхенбаум был поражен.
Тициан всегда ведет разговор о поэзии. И если о жизни, то опять же в связи с поэзией. Он аккумулятор поэтического процесса. Он все читал, все помнит, все знает или уж, во всяком случае, имеет представление о том, что пишут другие, потому что при нем кто-то прочел свои стихи вслух. Но знания для него не сами по себе, они возбудитель и продолжение мысли, образов, сопоставлений. И при этом в стихах его нет ничего книжного. И все - свое. Только то, что еще никем не высказано. Не увидено. Не указано и не познано. Только свое.
Бывало - он спит очень мало. Ему грезятся новые строчки, - стихотворение рождается. Или возникшие новые поэтические знакомства держат в состоянии вдохновенного интереса. Андрей Белый с женой. Философские разговоры, споры. Поездки по Грузии. Командировки по велению дружбы. Кажется, это было в 28-м году - Белый приехал. Кроме него, к Тициану приглашены Шкловский, приглашен отец мой, который и меня взял с собой. Там уже Паоло с супругой. Вдохновенное бормотанье Белого. И очень резкий спор о Гегеле и о Канте с отцом. Помню радостное оживление Тициана! Ему интересно!