– Но мы все-таки тогда совсем не понимали всей правоты заданий почтенного редактора! – Более года не отказывался от них N и наконец махнул рукой. В газете стали появляться Блоковские стихи. Поэту это было невыгодно, конечно: но когда же поэт держится за свою выгоду?
Вл. Пяст
4 июня 1912 г.
Устраиваю (стараясь…) дела А. М. Ремизова, которому нужны эти несчастные 600 рублей на леченье и отдых, притом заработанные, начинаю злиться.
Руманов – я уже записываю это – систематически надувает: и Женю [Иванова], и Пяста, теперь – Ремизова. Когда доходит до денег, – он, кажется, нестерпим. Или он ничего не может, а только хвастается? Купчина Сытин, отваливающий 50.000 в год бездарному мерзавцу Дорошевичу, систематически задерживает сотни, а то и десятки рублей подлинным людям, которые работают и которым нужно жить– просто. Такова картина.
24 ноября 1912 г.
С 11 часов вечера – у Ар. Вл. Тырковой – редакционное заседание "Русской Молвы", которая начнет выходить с 7 декабря. Присутствуют А. В. Т(ыркова); англичанин , проф. Адрианов, мы с Ремизовым и приглашенные нами – Е. П. Иванов, Вл. Н. Княжнин, Вл. А. Пяст, Η. П. Ге и Б. А. Садовской . Я читаю свою докладную записку об отношении искусства к газете и превращаюсь в какого-то лидера. Следующее собрание – через неделю. Мою статью хотят сделать определяющей в отношении газеты к искусству.
Дневник А. Блока
…К работе в этой газете хотели привлечь и Блока, который предложение принял и для первого номера написал статью и пришел ко мне ее читать. К великому нашему смущению, она оказалась смесью литературы и политики, да еще, выражаясь шаблонно, политики старой, пропитанной страстным воинственным национализмом. Он кончил. Мы сидели молча… Потом сказали, что так нельзя, что наш национализм приемлет все народы, живущие в России, признавшие ее родиной. Мы никого не отвергаем, никого не изгоняем.
Блок защищался парадоксально, но метко. Потом уступил. Согласился выбросить всю политическую часть и дать только литературную половину. Но все-таки в разговоре со мной с горькой яростью доказывал, что у русских нет инстинкта самосохранения, что надо с мечем в руках защищать национальные ценности и прежде всего русский язык.
А. Тыркова
18 декабря 1911 г.
Страшная, тягостная вещь – талант, может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка – "легкое бремя".
Правду, исчезнувшую из русской жизни, – возвращать наше дело.
Дневник А. Блока
Во мне есть "шестидесятническая" кровь и "интеллигентская" кровь и озлобление, и – мало ли еще что. Только все это в нас – какие-то осколки и половинки, и не этими половинками мы сможем что-нибудь для чего-нибудь сделать, принести чему-нибудь пользу, – а только цельным, тем, что у каждого – свое, а будет когда-нибудь – общее.
Письмо к В. Н. Княжнину 9 XI 1912 г.
24 декабря 1911 г.
Городские человеческие отношения, добрые ли, или не добрые, – люты, ложны, гадки, почти без исключений. Долго, долго бы не вести "глубоких разговоров"!
2 января 1912 г.
Когда люди долго пребывают в одиночестве, например, имеют дело только с тем, что недоступно пониманию "толпы" (в кавычках – и не одни, а десяток), как "декаденты" 90-х годов, тогда – потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными и часто (многие из них) падают ниже самой "толпы". Так было со многими из нас.
13 января 1912 г.
Пришла "Русская Мысль" (январь). Печальная, холодная, верная – и всем этим трогательная – заметка Брюсова обо мне. Между строками можно прочесть: "Скучно, приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?" Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется – в чтении, писании, отделываньи, получении писем и отвечании на них? – Но – лучше ли "гулять с кистенем в дремучем лесу".
Дневник А. Блока
Еретиками оказывались сами символисты; ересь заводилась в центре. Ничьи вассалы не вступали в такие бесконечные комбинации ссор и мира – в сфере теорий, как вассалы символа. И удивительно ли, что символисты одного из благороднейших своих деятелей проглядели: Иннокентий Анненский был увенчан не ими. К основным порокам символизма в круге разрушивших его причин нельзя не отнести также и ряды частных противоречий, живших в отдельных деятелях. Героическая деятельность Валерия Брюсова может быть определена, как опыт сочетания принципов французского Парнаса с мечтами русского символизма. Это – типичная драма воли и среды, личности и момента. Сладостная пытка, на которую обрек себя наследник одного из образов Владимира Соловьева, Александр Блок, желая своим сначала резко-импрессионистическим, позднее лиро-магическим приемом дать этому образу символическое обоснование, еще до сих пор длится, разрешаясь частично то отпадами Блока в реализм, то мертвыми паузами. Творчество Бальмонта оттого похоже на протуберанцы Солнца, что ему вечно надо вырываться из ссыхающейся коры символизма. Федор Сологуб никогда не скрывал непримиримого противоречия между идеологией символистов, которую он полуисповедывал, и своей собственной – солипсической.
Катастрофа символизма совершилась в тишине – хотя при поднятом занавесе. Ослепительные "венки сонетов" засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, о трагедии, о великом эпосе, о великой в простоте своей лирике. Из "слепительного да" обратно выявлялось "непримиримое нет".
Сергей Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии
4 марта 1912 г.
Спасибо Горькому и даже – "Звезде" . После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов – запахло настоящим. Так или иначе, при всей нашей слабости и безмолвии подкрадыванье к событиям двенадцатого года отмечается опять-таки в литературе.
Дневник А. Блока
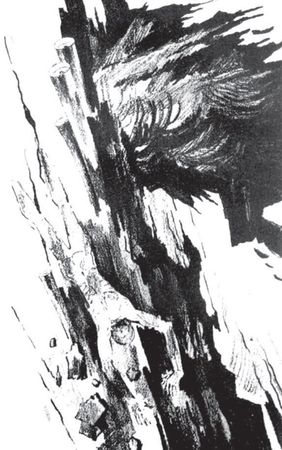
Д. Бисти. Иллюстрация к поэме "Возмездие". 1978 г.
Многоуважаемый Павел Елисеевич!
Извините, пожалуйста: сегодня я Вам послал листок с моим мнением о лучших романах этого года и, уже после того, как опустил в ящик, сообразил, что все это написано каким-то суконным нерусским языком. Объясняется это тем, что я весь день сегодня писал стихами, а потому в прозе окончательно охромел. Пожалуйста, бросьте тот листок, вот Вам другой вместо него.
Преданный Вам Александр Блок
Важнейшими литературными произведениями этого года я считаю два романа: "Петербург" Андрея Белого и "Туннель" Бернгарда Келлермана. А. Белый говорит о судьбах России, Келлерман – о судьбах Америки и Европы; А. Белого вдохновляет близкое прошлое, Келлермана – близкое будущее; у писателей этих, принадлежащих к различным расам, нет ни одной общей точки зрения, ни одного общего приема: даже недостатки их (поражающие – у А. Белого) совершенно различны. Тем не менее, оба произведения, отмеченные печатью необычайной значительности, говорят о величии нашего времени .
Неизданное письмо к Π. Е. Щеголеву 19/ΧΙΙ-1913 г.
* * *
17 апреля 1912 г.
Когда мы ("Новый Путь", "Весы") боролись с умирающим плоско-либеральным псевдореализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения.
Дневник А. Блока
Символическое движение в России можно к настоящему времени счесть, в главном его русле, завершенным. Выросшее из декадентства, оно достигло усилиями целой плеяды талантов того, что по ходу развития должно было оказаться апофеозом и что оказалось катастрофой. Причины этой катастрофы коренились глубоко, в самом движении.
Новый век влил новую кровь в поэзию русскую. Начало второго десятилетия – как раз та фаза века, когда впервые намечаются черты его будущего лика. Некоторые черты новейшей поэзии уже определились, особенно в противоположении предыдущему периоду. Между многочисленными книгами этой новой поэзии было несколько интересных; среди немалого количества кружков выделился Цех Поэтов. Газетные критики уже в самом названии этом подметили противопоставление прямых поэтических задач – оракульским, жреческим и иным. Но не заметила критика, что эта скромность, прежде всего, обусловлена тем, что Цех, принимая на себя культуру стиха, вместе с тем принял все бремя, всю тяжесть неисполненных задач предыдущего поколения поэтов. Непреклонно отвергая все, что наросло на поэзии от методологических увлечений, Цех полностью признал высоко поставленный именно символистами идеал поэта. Цех приступил к работе без всяких предвзятых теорий. К концу первого года выкристаллизовались уже выразимые точно тезы. Резко очерченные индивидуальности представляются Цеху большой ценностью, – в этом смысле традиция не прервана. Тем глубже кажется единство некоторых основных линий мироощущения. Эти линии приблизительно названы двумя словами: акмеизм и адамизм. Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в конце концов, заполнив мир "соответствиями", обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще.
С. Городецкий
21 ноября 1912 г.
Весь день просидел Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о его стихах, о Гумилеве, о Цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом.
Дневник А. Блока
В журнале "Аполлон" в 1913 году появились статьи Н. Гумилева и С. Городецкого о новом течении поэзии; в обеих статьях говорилось о том, что символизм умер и на смену ему идет новое направление, которое должно явиться достойным преемником своего достойного отца… Н. Гумилев пренебрег всем тем, что для русского – дважды два – четыре. В частности он не осведомился и о том, что литературное направление, которое по случайному совпадению носило тоже греческое имя "символизм", что и французское литературное направление, было неразрывно связано с вопросами религии, философии и общественности; к тому времени оно, действительно, "закончило круг своего развития", но по причинам отнюдь не таким, какие рисовал себе Н. Гумилев. Причины эти заключались в том, что писатели, соединявшиеся под знаком "символизма", в то время разошлись между собою во взглядах и миросозерцаниях; они были окружены толпой эпигонов, пытавшихся спустить на рынке драгоценную утварь и разменять ее на мелкую монету; с одной стороны, виднейшие деятели символизма, как Брюсов и его сотрудники, пытались вдвинуть философское и религиозное течение в какие-то школьные рамки (это-то и было доступно по мнению Н. Гумилева); с другой – все назойливее врывалась улица; словом, шел обычный русский "спор славян между собою" – "вопрос не разрешенный" для Гумилева; спор по существу был уже закончен, храм символизма опустел, сокровища его (отнюдь не "чисто литературные") бережно унесли с собой немногие; они и разошлись молчаливо и печально по своим одиноким путям. Тут-то и появились Гумилев и Городецкий, которые "на смену" (?!) символизму принесли с собой новое направление, "акмеизм" (от слова acme – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм ("мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь"). Почему такой взгляд называется "адамизмом", я не совсем понимаю, но, во всяком случае, его можно приветствовать; только, к сожалению, эта единственная, по-моему, дельная мысль в статье Гумилева была заимствована им у меня: более чем за два года до статей Гумилева и Городецкого мы с Вяч. Ивановым годами гадали о ближайшем будущем нашей литературы на страницах того же "Аполлона", тогда я эту мысль и высказал.
А. Блок. Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)
Конечно, я знаю: русская литература разбита на партии и направления, друг друга отрицающие, друг друга поедающие; все несвязно, все разрозненно, как в рассыпавшейся храмине. Вот в одном углу почтенные ветераны от литературы, вроде П. Боборыкина, неустанно изливают скорбь свою о падении современной беллетристики, о пагубном направлении вкусов молодежи, о том, что "ничего понять невозможно".
Но это только один уголок нашей литературной храмины.
…В третьем углу собрались обломки старого "декадентства", уразумевшие всю тщету былого чистого эстетизма и схватившиеся кто за что: кто за православие, кто за теософию, кто за иные формы религии… Вопрос о современной литературе для них ясен: литература – это они и только они; они цель всего предшествующего и зерно всего будущего. Они группируются в религиозно-философских обществах Москвы и Петербурга, в теософических кружках и собраниях.
Этих групп, кружков и "углов" современной литературы так много, что еще долго можно перечислять их и описывать. Их десятки, и все они ведут между собой bellum omnium contra omnes. Здесь твердокаменные "реалисты" пытаются оградить себя (и неудачно) от влияния и вторжения ненавистного "модернизма"; тут былые "модернисты" обращаются к "реализму" и спорят о словах, не определив их смысла; там наследники "декадентов" ищут новых путей в религии, в народе, в общественности. И все в жестокой борьбе со всеми, все воюют друг с другом, – и инде реалист гнет модерниста, а инде мистик гнет реалиста… Сюжет, достойный кисти Карамзина. Это ли не рассыпанная храмина русской литературы?
Иванов-Разумник. Литература и общественность
12 января 1913 г.
Впечатления последних дней.
Ненависть к акмеистам, недоверие к Мейерхольду, подозрение относительно Кульбина.
10 февраля 1913 г.
Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше – один отвечаю за себя, один – и могу еще быть моложе молодых поэтов "среднего" возраста, обремененных потомством и акмеизмом.
11 февраля 1913 г.
А. Белый. Не нравятся мне наши отношения и переписка. В его письмах все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше "Ты" (с большой буквы).
11 февраля 1913 г.
День значительный. – Чем дальше, тем тверже я "утверждаюсь" "как художник". Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты. Днем пришла особа, принесла "почетный билет" на завтрашний соловьевский вечер. Села и говорит: "А "Белая Лилия", говорят, пьеска в декадентском роде?" – В это время к маме уже ехала подобная же особа, приехала и навизжала, но мама осталась в живых.
Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На то нервы и струновидны – у художника. Пусть будет так: дело в том, что очень хороший инструмент (художник) вынослив, и некоторые удары каблуком только укрепляют струны. Тем отличается внутренний рояль от рояля "Шредера".
После того я долго по телефону нашептывал Поликсене Сергеевне [Соловьевой] аргументы против завтрашнего чтения. В 12 часов ночи – звонок и усталый голос: "Я решила не читать". – Мне удается убеждать редко, это большая ответственность, но и радость.
11 марта 1913 г.
Это все делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и "акмеизм", "омертвление" и "оживление", реакция и революция. Людские воли действуют но иному кругу, а на этот круг большинство людей не попадает, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это – поприще "великих" людей, а в круге "жизни" (так называемой) – как вечно – сумбур; это – маленьких, сплетников. То, что называют "жизнью" самые "здоровые" из нас, есть не более, чем сплетня о жизни.
11 марта 1913 г.
Все, кажется, благородно и бодро, а скоро придется смертельно затосковать о предреволюционной "развратности" эпохи "Мира Искусства". Пройдет еще пять лет, и "нравственность" и "бодрость" подготовят новую "революцию" (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски).
22 марта 1913 г.
По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто "понимают символизм" и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие. Но – слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше…
Вечером, чтобы разогнать тоску, пошел к Мейерхольду.
Дневник А. Блока