Однако многие произведения носят отпечаток состояний подавленности. Это особенно заметно в его лирике и письмах к друзьям. Мы сознательно не приводим здесь известных хрестоматийных стихов Некрасова, где такая тенденция тоже прослеживается, а берем лишь те, которые наиболее ярко показывают влияние настроения автора на его творчество. Вот примеры лирических стихов, написанных в разное время:
Поражена потерей невозвратной,
Душа моя уныла и слаба:
Ни горести, ни веры благодатной -
Постыдное бессилие раба!
Ей все равно – холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь, -
Погасла и спасительная злоба,
Что долго так разогревала кровь.(1848)
Отрывок свидетельствует о мрачном, депрессивном настроении автора, носящем оттенок раздражительности, даже озлобленности (дисфории). При углублении депрессии злоба исчезает, возникает субъективное ощущение "бесчувствия", более тягостного для человека, чем состояние даже крайнего раздражения.
А вот строки с укорами самому себе и мрачным взглядом в будущее:
Полно роль-то играть сумасшедшего,
В сердце искру надежды беречь!
Не стряхнуть рокового прошедшего
Мне с моих невыносливых плеч!
Придавила меня бедность грозная,
Запугал меня с детства отец,
Бесталанная долюшка слезная
Извела, доконала вконец!
Знаю я: сожаленье постыдное,
Что как червь копошится в груди,
Да сознанье бессилья обидное
Мне осталось одно впереди.(1855)
Или:
Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них (стихов поэта. - Прим. авт.).
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!(1855)
Часты в лирике мотивы самоубийства, непременные спутники депрессии:
И некому и нечем помянуть!
Настанет утро – солнышко осветит Бездушный труп… все будет решено! И в целом мире сердце лишь одно – И то едва ли – смерть мою заметит…(Между 1853 и 1855)
А вот довольно полное описание депрессии (поэту 33 года):
Я сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум,
Так глубоко, глубоко спокоен
Мой истерзанный пыткою ум, -
Что недуг, мое сердце гнетущий,
Как-то горько меня веселит -
Встречу смерти, грозящей, идущей,
Сам пошел бы…
<…>
А недуг, сокрушающий силы,
Будет так же и завтра томить
И о близости темной могилы
Так же внятно душе говорить…(1855)
Все это четко отражает переживания автора, а сколько у него стихов и поэм с трагическими сюжетами!
Тема депрессии постоянно звучит и в его письмах. Во многих из них поэт касается своего психического ("нервного") состояния. Вот что он пишет И. С. Тургеневу, дружба с которым продолжалась всю первую половину его творческой жизни, в период работы в "Современнике": "Я подумываю про себя: погубил я свою молодость, и поглядываю на потолочные крючки" (май 1856 года); "Всю дорогу на душе у меня было то, чем сцала собака, теперь тоже нехорошо, надо работать, а руки опускаются, точит меня червь, точит. В день двадцать раз приходит на ум пистолет, и тотчас делается при этой мысли легко. Я сообщаю тебе об этом потому, что это факт, а не потому, чтоб я имел намерение это сделать – надеюсь, никогда этого не сделаю. Но нехорошо, когда человеку с отрадной точки зрения поминутно представляется это орудие. Правда, оно все примирит и разрешит, да не хочу я этого разрешения" (июнь, 1857); "О себе говорить не хочется, скажу только, что спокойствие душевное у меня одинаково ненадежно; в сущности, мне было, есть и будет кисло, я не слишком нравлюсь самому себе, а при постоянстве этого чувства хорошо не живется" (март, 1858).
Позднее у Некрасова сложились очень добрые и доверительные отношения с Добролюбовым. Используя свой опыт "борьбы" с депрессией, Некрасов выступает в роли "стихийного психотерапевта" и пишет захандрившему за границей Добролюбову: "Я это испытывал, и до готовности плакать у меня доходило, и от героических поступков был на шаг, или, лучше сказать, глупостей, и то задумывалось, что завтра представлялось не могущим забрести в голову. Как только такое пойдет в голову или слезы начнут подступать – надо сейчас успокоиться физически – лечь и полежать полчаса неподвижно, потом поесть, а если уж совсем не хочется, то книгу взять, впрочем, есть можно иногда и насильно начинать. И помнить, что все на свете, начиная с жизни, не так серьезно, как кажется, что люди большею частию, да и мы сами, легкомысленны, что все перемалывается и что на все должно смотреть с нескольких сторон, а только не всегда смотрится, оттого и человек уходит в мрак и спутывается". Вот такой рецепт. Чувствуется, что автору письма приходилось неоднократно переживать подобные ситуации – и отвращение к жизни, и навязчивые мысли о самоубийстве. И тут же Некрасов добавляет: "Старый я дурак, возмечтал о каком-то сердечном обновлении. И точно, четыре дня у меня малиновки пели на душе. Право! Как было хорошо. То-то бы так осталось – да не осталось". Да, недолгими были состояния приподнятого настроения у поэта. Вот он и говорил после самоубийства Пиотровского, о котором мы раньше писали: "Ну могло ли мне прийти в голову, что из-за трехсот рублей человек мог застрелиться? Я охотно дал бы десять тысяч, чтобы избежать… мучительного состояния, в котором теперь нахожусь". В ноябре 1869 года он пишет А. Н. Островскому: "Я чувствую смертную хандру, которую стараюсь задушить всякими глупостями. Кажется мне, что скоро умру, однако не это причина уныния, а черт знает что!". Это, конечно, небольшие отрывки из многочисленных деловых и лирических писем Некрасова, но как ярко они характеризуют психическое состояние поэта в определенные периоды. При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что все состояния, о которых мы упоминаем, за исключением случая самоубийства Пиотровского, возникали без серьезных психологических причин.
Основная тема его произведений – страдания народа – тоже не вселяла оптимизма. Произошедшая в 1861 году крестьянская реформа оказалась в значительной мере обманом. Крестьян освободили, но оставили без земли. И Некрасов переживал этот обман как личное несчастье. Вообще судьба не очень баловала поэта. Удачливым и счастливым Некрасова считали только мало знавшие его люди. В 30-летнем возрасте он заболел "горловой болезнью". Тогдашние медицинские светила, среди которых были Н. И. Пирогов и Ф. И. Иноземцев, считали болезнь неизлечимой. Однако мрачный прогноз не оправдался. Однажды он был осмотрен молодым выпускником медико-хирургической академии, который распознал хроническую инфекцию. Диагноз подтвердили опытные врачи, изменили лечение, и больной стал поправляться. Тем не менее это обстоятельство омрачало жизнь поэта более двух лет.
Приведенные здесь сведения достаточно убедительно показывают единство творчества и личности Некрасова, в которой превалируют выраженные, преимущественно депрессивные, аффективные расстройства.
Эмоциональная неустойчивость и склонность принимать быстрые решения иногда толкали Некрасова на предосудительные, с точки зрения его окружения, поступки, которые он вроде бы совершал "во благо идеи", но потом за них стыдился, мучительно раскаивался. Так было в 1866 году, когда после покушения Каракозова на царя Александра II усилились гонения на проявления свободомыслия, и первыми жертвами должны были стать тогдашние передовые журналы, а среди них – "Современник" (напомним, что, несмотря на усилия поэта, журнал был через некоторое время все-таки закрыт). Некрасов, будучи членом Английского клуба, в который вхожа была только петербургская элита, люди реакционного толка, во всяком случае не демократы, часто ездил туда по вечерам играть в карты. И вот, чтобы спасти "Современник", Некрасов решает продемонстрировать "верноподданнические чувства". Дважды он выступает в Английском клубе со стихами "Осипу Ивановичу Комиссарову" (согласно официальной версии, Комиссаров, мастеровой из Костромы, спас царя, толкнув стрелявшего Каракозова), а также со стихотворным приветствием М. Н. Муравьеву, возглавившему следственную комиссию по каракозовскому делу (Муравьев за свою жестокость и реакционность был прозван "вешателем"). Попытка Некрасова спасти "Современник" оказалась тщетной, а поэт глубоко раскаивался в поступке, за который его многие упрекали.
Самые трудные испытания выпали на долю поэта в последние два с половиной года жизни. Это была неизлечимая тогда болезнь – рак кишечника, постепенно лишившая его возможности передвигаться и вызывавшая невыносимые боли. Вот что он пишет брату спустя год после начала болезни: "Мне очень плохо; главное: не имею минуты покоя и не могу спать – такие ужасные боли в спине и ниже уже третий месяц… Что далее будет со мною, не знаю, – состояние мое крайне мучительное – лучше не становится". В то время он живет в своем имении, Чудовской Луке, откуда еженедельно ездит на консультации к профессору С. П. Боткину. Потом Некрасов едет в Крым, где также находится под наблюдением Боткина, откуда пишет сестре: "Ноги плохи, сон дурен, но все же я покрепче; кабы не проклятые боли – пропасть бы написал, да и жилось бы сносно". После возвращения Некрасова в Петербург вызванный из Вены знаменитый хирург Бильрот производит ему операцию, на короткое время облегчившую состояние поэта. Все это время Некрасов продолжает писать. Его творчество в этот период свидетельствует о том, что, помимо физических страданий, у поэта имеется ясное представление о тяжести и безнадежности его состояния. Это не может не отражаться в стихах, которые, однако, остаются безупречно мастерскими по форме и глубокими по содержанию. Несмотря на тяжкие страдания, он находит в себе силы полушутя обратиться за помощью к народу:
Я взываю к русскому народу:
Коли можешь, выручай!
Окуни меня в живую воду,
Или мертвой в меру дай.(1877)
У него хватает еще сил сочувствовать матерям, отправившим сыновей на войну:
Прежде – праздник деревенский,
Ныне – осень голодна;
Нет конца печали женской,
Не до пива и вина.
С воскресенья почтой бредит
Православный наш народ.
По субботам в город едет,
И продолжением одной из его главных тем в это особенно мрачное для поэта время является короткий гимн матери:
Ходит, просит, узнает:
Кто убит, кто ранен летом,
Кто пропал, кого нашли?
По каким по лазаретам
Уцелевших развезли?(1877)
Несмотря на тяжкие переживания, поэт не теряет веры в будущее:
Великое чувство! У каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далеких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем, -
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.(1877)
Устал я, устал я… мне время уснуть!
О Русь! Ты несчастна… я знаю…
Но все ж, озирая мой пройденный путь,
Я к лучшему шаг замечаю.(1877)
Вспомним последнее стихотворение Некрасова:
О Муза! Я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба -
Не плачь! Завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому кровному союзу!
Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…(1877)
Такими словами завершил Некрасов свой жизненный и творческий путь. Да, он был гражданином, охотником, игроком, барином, но главное, что он сделал, – оставил нам стихи, в которых сохранил на всю жизнь верность своей Музе, "сестру" которой он в молодости увидел на Сенной площади, избиваемую кнутом. Обратите внимание, как перекликается его стихотворение 1848 года "Вчерашний день, часу в шестом… " с этим последним стихотворением. Он действительно "лиру посвятил народу своему", и подвиг его был оценен еще при жизни, несмотря на мрачные прогнозы поэта.
Н. Г. Чернышевский, человек далеко не сентиментальный, но объективный и принципиальный, писал из вилюйской ссылки одному из сотрудников "Отечественных записок": "Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека… что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов". Эти слова были переданы Некрасову незадолго до его смерти. Что же можно сказать о характере и творчестве Некрасова? Он, без сомнения, страдал расстройством личности с выраженными аффективными колебаниями (циклотимией), которые проявлялись преимущественно в снижении настроения с раздражительностью (дисфориями). Безусловно, эти расстройства повлияли на характер творчества Некрасова, сформировав его как гениального певца "гнева и печали". Умер Н. А. Некрасов 27 декабря 1877 года (по новому стилю 8 января 1878 года) в Санкт-Петербурге. Гроб несли на руках от Литейного проспекта до Новодевичьего монастыря. На похоронах присутствовало около четырех тысяч человек. Среди выступивших над могилой поэта были Ф. М. Достоевский и Г. В. Плеханов.
Могилы многих представителей русской культуры были разрушены в советское время, а надгробные памятники перенесены на кладбища-музеи: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры и "Литераторские мостки" Волковского кладбища. Но могила Н. А. Некрасова сохранилась на прежнем месте – сразу у входа на кладбище Новодевичьего монастыря.
Итак, мы рассмотрели влияние на творчество душевной болезни, что приводило к отрицанию, обеднению, стимуляции творчества или независимому существованию с ним, или утрате творческих возможностей лишь во время приступов. Теперь же переходим к психическим аномалиям, врожденным или приобретенным благодаря болезни (эпилепсии). Эти аномалии "орнаментировали" творчество, придавали ему своеобразие, характерные черты, влияя и на жизнь гениев.
ДЖОНАТАН СВИФТ
Он шел по жизни, точно человек, одержимый бесом
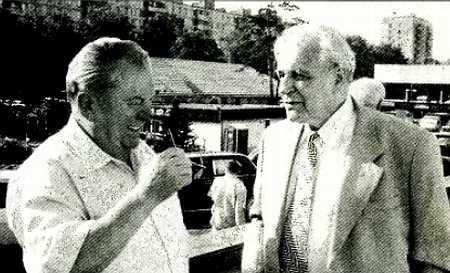
Дж. Свифт
Неизвестный художник
Чезаре Ломброзо (1998) уверенно включает Свифта (1667 – 1745) в перечень душевнобольных гениев, естественно, не ставя диагноза. Этому нетрудно поверить, рассматривая последние 9 лет жизни Дж. Свифта, когда память его разлеталась в клочья. Однако психиатру нелегко решить, укладывается ли Свифт в границы условной психической нормы на протяжении всей жизни.
Затруднения возникают из-за того, что личность писателя – клубок противоречий. Особенно они касаются несоответствия его высказываний и реальных поступков. Кроме того, Свифт был гениальным мистификатором, ловко скрывающим свои истинные мысли, авторство, прячущимся за своими героями. Так было с "Путешествиями Гулливера" – рассказом якобы реального капитана, передавшего описания своих странствий издателю Роберту Симпсону, а потом упрекавшего последнего за допущенные ошибки в нелицеприятных высказываниях о королеве и ее министрах.
Трудности в анализе личности Свифта усиливаются отсутствием единого мнения среди его биографов: для одних он великий гуманист, атеист и революционер (Левидов М., 1986), для других "идет по жизни, точно человек, одержимый бесом" (Уильям Теккерей).
И все-таки попробуем разобраться.
Многим современным читателям Свифт известен в основном как автор "Путешествий Гулливера", еще большему числу – как автор только "Гулливера в стране лилипутов" (была тенденция "причесать" Свифта и представить его автором детской развлекательной литературы). Гораздо менее известно, что "Путешествия Гулливера" были в жизни Свифта эпизодом, написанным на склоне жизни – в 60 лет, а широчайшую известность в Англии и Ирландии он получил как автор многочисленных памфлетов, из которых наиболее знамениты "Сказка бочки" и "Письма суконщика".
В образе Свифта сочетались добрые дела, неистовая ненависть и злоба к тем, для кого он эти дела совершал, и житейская неприспособленность. Не является ли уже одно это сочетание свидетельством аномальности личности?
Первая биография Свифта (автор – лорд Оррери) вышла в свет в 1753 году. В ней говорится о трудном характере, необузданности, мрачности Свифта и о том, что на формирование его личности повлияли тяжелые условия жизни в детстве и отрочестве. Вряд ли это так. Да, отец умер еще до его рождения, но мать смогла дать Джонатану достойное образование, тем более что с детства он обнаружил определенные способности: с 5 лет читал и писал. Учился он в лучшей закрытой школе Ирландии, куда переехали его родные, хотя все были этническими англичанами. Затем он поступил в колледж Святой Троицы Дублинского университета.
В период учебы будущий писатель совершал странные, экстравагантные поступки, например однажды привел в школу лошадь. А когда в Дублинском университете Свифта упрекнули в незнании правил логики, он заявил, что способен рассуждать и без этого. Степень бакалавра искусств получил лишь по "особой милости". Не окончив университет, он переезжает в Англию и поступает секретарем к другу семьи – Уильяму Темплю, дипломату, ушедшему на покой. При содействии последнего получает степень магистра богословия и сан священника англиканской церкви Ларакорского округа в Ирландии. Перед ним открыты пути к дальнейшей карьере, однако он начинает писать злобные памфлеты, мечтая при этом получить сан епископа в Англии (!).