Когда умирает молодой человек, возникает ощущение незавершённости пути, ибо его конец почти сливается с началом. Жизнь представляется оборванной на полужесте, полуслове, полувзгляде. Михаил Юрьевич Лермонтов не успел вполне обозначить своего зрелого возраста, дистанцироваться от легкомысленной, взбалмошной, а в чём-то иногда и порочной юности, как это было дано, скажем, Пушкину.
И всё же превращение разбитного и циничного донжуана в серьёзного и глубокого писателя произошло. А случилось оно где-то на рубеже между двумя встречами Лермонтова с Белинским: Пятигорской – в 1837 году и Петербургской – в 1840-м. Виссарион Григорьевич посчитал, что в первый раз Михаил Юрьевич укрылся от него за насмешливой маской светского фата, а потом предстал уже в подлинном виде. Великий критик, вероятно, не учёл, что три года, разделяющие эти два события, были очень существенным этапом краткой по срокам, но интенсивной по чувствам и мыслям жизни поэта, этапом на его пути к самому себе.
Чем же оказалась для Лермонтова его последняя дуэльная история? Как это часто бывает, именно встреча с давними друзьями воскрешает в человеке уже преодолённое и теперь не актуальное, и человек начинает сбиваться на прежнее, ибо ещё не успел включить прошлое в свою новую, более зрелую форму взглядов и отношений. Он как бы ощущает некую эйфорию и экзальтацию упразднённого времени. Вот и Михаил Юрьевич принялся школьничать со своим давним товарищем "мартышкой" совершенно в юнкерском духе. А тот, натура слишком заурядная, уже давно отошёл от своего детства, посолиднел, ороговел. Не понял и не принял этих мальчишеских шуток, но посмотрел на своего бывшего товарища уже вполне отчуждённо, оскорбился, вызвал его на дуэль и убил.
Комиссия военного суда в Пятигорске приговорила и убийцу Лермонтова, и секундантов к лишению чинов и прав состояния. Но высочайшая конфирмация, последовавшая от государя, оказалась куда более снисходительной к этому преступлению: "Майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению к полученной им в сражении тяжёлой ране". Что касается Монго-Столыпина и Трубецкого, их участие в поединке секунданты, посовещавшись, решили скрыть. Монго-Столыпин уже фигурировал по делу о дуэли с Барантом, а Трубецкой приехал на воды без разрешения. Им грозили более строгие взыскания.
Командующий Кавказской линией генерал-адъютант Граббе на донесение по поводу следствия о дуэли ответил: "Несчастная судьба у нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти". К словам Граббе можно добавить разве что ещё и ту грустную истину, что поэтов в России во все времена убивали вполне безнаказанно.
Весною 1842 года прах Михаила Юрьевича был перевезён в цинковом гробу в Тарханы для перезахоронения в усыпальнице, построенной Елизаветой Алексеевной Арсеньевой для своего любимого внука. Ну а князю В. Одоевскому вернули альбом, за несколько месяцев до гибели подаренный Лермонтову с условием, что когда страницы заполнятся стихами, даритель получит его обратно. Увы, альбом остался незаполненным. И всё-таки несколько шедевров поэт успел вписать в него своею рукой. Вот один из них, как-то совсем по пушкински печально-светлый, исполненный мудрой умиротворённостью и желанием покоя.
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!4
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
Призвание, или глас вопиющего в пустыне (Фёдор Иванович Тютчев)
Талант – почти что вещь. Можно пустить в оборот и получить всяческую прибыль, можно закопать и оказаться в накладе. А вот возможно ли, чтобы человек, не ведая или не желая знать о ниспосланном ему чудесном даре, изменил своему предназначению? Нам известны приключения библейского пророка Ионы, бежавшего от Господа Бога, побывавшего в брюхе у кита и всё-таки пришедшего в Ниневию, чтобы выполнить удручавшее его поручение Всевышнего. Ну, а Фёдор Иванович Тютчев, в чём было его назначение? Кем считал себя он сам? И за кого принимали его другие? Профессиональный дипломат, увы, так и не одержавший ни одной политической победы. И он же поэт-дилетант, стыдившийся своего сочинительства, равнодушный к судьбе своих стихов и покоривший ими весь мир. Контраст, заставляющий задуматься о глубинном смысле слова "призвание" и о власти этого слова над человеком.
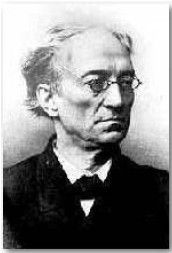
Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноября 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда в старинной дворянской семье. Не от своего ли далёкого предка – боярина Захария Тютчева, посетившего хана Мамая в Орде незадолго до Куликовской битвы, унаследовал он дипломатические способности? По крайней мере, известно, что Захарий, чтобы выполнить посольское поручение Дмитрия Ивановича, князя Московского, проявил и немалую сметку, и редчайшее мужество. Ну а поэтический дар, как известно, не наследуется, но даётся единожды и более в роду не встречается.
Рос мальчик в семье добронравной и спокойной, самого обычного помещичьего уклада. Религиозны, общительны, хлебосольны – всё в меру. Выделялись разве что умом да сметкою, а потому и состояли в почёте у соседей. Когда Феде было только 9 лет, в воспитатели к нему был приглашён поэт-переводчик Семён Егорович Раич. Выбор наставника предопределил всё: и будущие интеллектуальные успехи Тютчева, и его житейскую неприспособленность.
Прежде всего воспитатель сумел заронить в душу мальчика любовь к латинской поэзии и в особенности к Горацию, являвшемуся предметом его собственного увлечения, а также взрастил в нём "горацианское", т. е. созерцательное, отношение к жизни. Нередко в пору летнего проживания в Овстуге Раич и маленький Федя выходили за околицу села и, расположившись где-нибудь на холме над рекою в виду зеленеющих рощ и полей, читали латинских авторов. Эти прогулки впечатлительного мальчика с гувернёром-эстетом, вероятно, и заложили основу высокого лирического чувства, которое впоследствии наполнило поэзию величайшего певца русской природы.
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный -
Всё вторит весело громам.Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!
Когда мальчику было только 13 лет, он уже довольно умело переводил из латинских авторов. А стихотворное подражание Горацию "Вельможа", написанное в 14-летнем возрасте, было зачитано на собрании "Общества любителей российской словесности", в число сотрудников которого он был тут же принят. Начало стремительное, под стать пушкинскому. От своего воспитателя Тютчев воспринял и критическое отношение к политическому устройству России. Раич был членом тайного прадекабристского общества – "Союз благоденствия". Правда, свободомыслие его питомца далеко не заходило: ненавидя крепостничество, юноша оставался приверженцем монархии.
В 1819 году Тютчев поступает в Московский университет на словесное отделение. Впрочем, университетские занятия начал он посещать ещё двумя годами прежде – в качестве вольнослушателя. И опять удача: среди его университетских профессоров оказался поэт Александр Фёдорович Мерзляков, автор знаменитой песни "Среди долины ровныя…", впоследствии приобретшей высокое звание народной. Читал Александр Фёдорович лекции по русской словесности и по теории поэзии. Человек своего времени, был он не слишком отзывчив на литературные новшества и своим консерватизмом чрезвычайно раздражал Михаила Юрьевича Лермонтова, обучавшегося у него десятью годами позднее. А вот Тютчеву, как латинисту и поклоннику Горация, несомненно импонировали старомодные представления профессора, основанные на классических образцах и "Поэтике" Аристотеля.
Впрочем, Мерзляков не столько тайны стихосложения раскрывал перед студенческой аудиторией, сколько околдовывал её обаянием свободного, прямо на глазах у публики рождающегося слова. Свои лекции Александр Фёдорович никогда не готовил, но строил на импровизации. Приносил, скажем, книгу стихов Ломоносова или Державина, раскрывал наугад и первую же попавшую на глаза оду начинал комментировать. Речь его при этом была легка, непринуждённа, убедительна, изобиловала сопоставлениями, блистала мыслями. Отличная школа для Тютчева и как поэта, подчинявшегося скорее чувственному порыву, чем холодной логике, и как будущего салонного говоруна. Посещал Тютчев и собрания "Общества любителей русской словесности". И конечно же, там в числе прочих звучали его стихи и переводы. И всякая не слишком удачная строка подвергалась общей критике. В трудах "Общества…" он и был впервые напечатан.
Юный поэт, пока ещё не имеющий светских привязанностей, всё своё время посвящает творчеству и образованию. Много читает. Михаил Погодин, будущий писатель и журналист, а тогда сотоварищ Тютчева по университету, хаживал к нему по-соседски и всегда заставал его за чтением какой-нибудь немецкой книги. Не без зависти воспринимал Погодин редкостную эрудицию своего сверстника: "Его рассуждения свысока о Виланде и Шиллере, Гердере и Гёте, которых он как будто принимал в своей предгостиной, возбуждали желание сравниться с его начитанностью". Несколько крылатых определений тогдашней аракчеевщины, высказанных Тютчевым, Погодин даже записал: "В России канцелярия и казарма", "Всё движется вокруг кнута и чина".
В 1821 году Фёдор Иванович досрочно окончил университет с присвоением ему степени кандидата словесных наук. А в 1822-ом поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел и уехал в Германию, получив место при русской дипломатической миссии в Мюнхене, поначалу сверхштатно и только через шесть лет в должности младшего секретаря. Естественно, что молодой дипломат испытывал серьёзные материальные затруднения, которые только усугубились его женитьбой на Элеоноре Теодоровне Петерсон, урождённой графине Ботмер. Была она на четыре года старше Тютчева, вдовствовала, имела троих сыновей и не обладала никаким состоянием. Впрочем, поскольку первым её мужем был тоже российский дипломат Александр Петерсон, поверенный в делах в Веймаре, пасынки после смерти их отца были определены в Морской кадетский корпус, по окончании которого один стал дипломатом, а двое других морскими офицерами. Семейный бюджет они, понятное дело, не отягощали. Родились у Тютчева в этом браке и собственные дети – три дочери: Анна, Дарья и Екатерина.
Не знавшая ни слова по-русски, Элеонора Теодоровна даже не подозревала, что её муж – гениальный поэт. Она любила его, жалела, видела в нём никчемное, неприспособленное к жизни существо, болезненное и безнадёжно честолюбивое. Была она, пожалуй, единственной из близких к Фёдору Ивановичу людей, кто не ощутил в нём огромного всеобъемлющего ума. То, что она писала о нём в своих письмах, имело чаще всего негативный характер: "наш дитятя", "не могу рассчитывать на его совет и поддержку", "занят своим ничегонеделанием"… И признавалась, что предпочла бы путешествовать с тремя младенцами, чем с одним Фёдором Ивановичем. Реальные трудности усугублялись приступами ужаснейшей меланхолии, унаследованными им от матери и частенько его посещавшими. "Самая нелепая, самая абстрактная идея, которую можно себе представить, мучает его до лихорадки, до слёз", – никак не могла надивиться на такую обострённую чувствительность своего мужа несчастная немка. А между тем её снисходительное, заботливое, материнское отношение лишало Тютчева последней возможности обзавестись мужеством и волей. Вундеркинд, чьё интеллектуальное развитие оставило далеко позади физическое и психическое, ещё мог бы, попадись ему более суровая жена, приобрести кое-какую житейскую сметку и характер. Но добрейшая Элеонора Теодоровна посадила его в качестве ещё одного "дитяти", а потом ещё и троих, произведённых от него детей на свой семейный воз и повезла, надрываясь, дальше.
Мюнхен тютчевской поры являлся одним из политических и культурных центров Европы. Просвещённый баварский король Людвиг сделал всё, чтобы превратить свою столицу в современные Афины. Вращаясь в высшем аристократическом, дипломатическом и интеллектуальном обществе этого города, Фёдор Иванович, хотя и был ещё очень молод, отнюдь не потерялся, но показал себя вполне светским человеком и таким мастером салонной беседы, которому едва ли имелись равные. Разговором с ним наслаждались и знаменитый философ Шеллинг, и премьер-министр Баварии старый граф Манжела, и особы королевской крови. Прочие же за неумением поддержать беседу на столь высоком уровне попросту заслушивались речью молодого русского дипломата.
Сам же Тютчев в эту пору упивался обилием новых впечатлений, ибо Мюнхен в его глазах представлял как бы театральную ложу, из которой так легко и удобно обозревалась сцена европейской политики, литературы, искусств. А эта возможность была и близка, и дорога его "горацианскому" мировоззренью.
ЦИЦЕРОН
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
"Я поздно встал – и на дороге
Застигнут ночью Рима был!"
Так!.. но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды её кровавой!..Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был -
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Однако само участие в этом высоком зрелище, само участие в жизни большого света, обязательное для дипломата, требовало от Фёдора Ивановича таких расходов, каких его скудный заработок не покрывал. Напрасно русский посланник в Баварии И.А. Потёмкин несколько раз обращался к своему шефу К.В. Нессельроде с просьбой увеличить жалование Тютчеву. При этом говорилось и о редких дарованиях молодого дипломата, и о его крайней нужде. Единственным ответом российского канцлера на эту назойливость был перевод Потёмкина в миссию при дворе Сардинского короля, в Гаагу, подальше от его злополучного протеже.
В феврале 1833 года Фёдор Иванович познакомился с одной из первых красавиц Европы – баронессой Эрнестиной Теодоровной Дёрнберг, отосланной поразвлечься в Мюнхен её отцом, баварским посланником в Париже. Как-то на балу муж красавицы почувствовал себя дурно. Сообщив жене, что отправляется домой, барон обратился к молодому русскому, стоявшему подле: "Поручаю жену мою вам!" Затем уехал домой, слёг, как оказалось, в тифу и вскоре умер. Молодым русским, которому он так многозначительно поручил свою супругу, был Тютчев. Между ним и прекрасной вдовушкой завязался роман.
При низком росте, тщедушном телосложении, вечно всклокоченных волосах и всегда неряшливом костюме поэт был чрезвычайно обходителен, тонок и аристократичен в манерах. И до того очарователен своею в высшей степени оригинальной, непринуждённой и блестящей беседой, что обаянию Фёдора Ивановича не могла противиться ни одна женщина не только в его молодую пору, но и гораздо позднее, когда он уже приметно состарился. Естественно, что была покорена и Эрнестина Теодоровна. Весною того же года состоялась их совместная поездка на север Италии. Влюблённых сопровождали брат баронессы Карл Пфеффель и немецкий поэт Генрих Гейне. Все четверо были в восторге от путешествия и от попутчиков. Кстати сказать, и Гейне не отнёсся к Тютчеву с безразличием, но отзывался о своём русском собрате по перу, стихи которого едва ли мог понимать, как о своём лучшем друге. И не ошибся, хотя бы потому, что именно Фёдору Ивановичу было суждено стать первым русским переводчиком стихов великого немецкого поэта, тогда ещё не вошедшего в славу.
Что же происходило с собственными стихами Тютчева, с его собственной славой? Пожалуй, кроме Раича, о существовании этого поэта в России ещё никто не подозревал. Несколько стихотворений, присланных из Германии бывшему наставнику и напечатанных анонимно в книжках журнала "Галатея" за 1829–1830 годы, не были замечены.
С тех пор Фёдор Иванович не предпринимал ни малейших попыток к публикации своих стихов. С чем же была связана его авторская пассивность? Прежде всего со всегдашним пренебрежением Тютчева к самому себе. Его горацианское начало было целиком и полностью направлено вовне, к окружающему миру. Ну а сам для себя он был слишком привычен и поэтому неинтересен. Слишком привычны и неинтересны для него были и собственные стихи, как часть самого себя. Оттого и называл он их, ничуть не лицемеря, "бумагомаранием". Только встречная любовь, а также интерес, направленный к нему извне, сообщали в его глазах некоторую ценность его личности и творчеству. Только будучи нужным и любимым, поэт мог жить, творить, существовать.
Люди, близкие к Фёдору Ивановичу и умевшие понять, что за прекрасные стихи он пишет, несомненно предпринимали попытки как-то расшевелить и подвигнуть его к их публикации. Но тщетно. Очевидно, от них требовалось нечто большее, чем обыкновенное ворчание и морализирование на эту тему.
И тогда за дело взялся Иван Сергеевич Гагарин, юный приятель Фёдора Ивановича, два года проработавший атташе при Баварской миссии и теперь вернувшийся в Россию. И вот Иван Сергеевич в письме обратился к поэту с просьбой выслать из Мюнхена в Петербург свои стихи и поручить ему "почётную миссию" быть их издателем. А ещё Гагарин попросил Тютчева придумать подходящее название для стихотворной подборки.
Фёдор Иванович, откликнувшись на просьбу приятеля, выслал все имеющиеся у него на руках автографы своих стихотворений и посоветовал обратиться к Раичу, у которого тоже могло быть что-то из его рукописей. Гагарин, последовав его совету, и впрямь получил от Раича ещё один пакет со стихами. Затем всё полученное переписал и копии передал Вяземскому, тот – Жуковскому, а Жуковский – Пушкину.
В 1836 году в 3 и 4-м номерах "Современника" Александр Сергеевич напечатал 24 стихотворения, подписанных крептонимом Ф.Т. и озаглавленных "Стихотворения, присланные из Германии". "Современник" продолжил печатанье тютчевских стихов и после смерти Пушкина вплоть до 1840 года. Что касается двух таинственных букв, которыми они неизменно подписывались, то они были расшифрованы лишь в 1839 году в статьях Менцова и Греча. От них читатели узнали о Тютчеве.
Вскоре после ужасающих известий о дуэли и гибели Александра Сергеевича поэт-дипломат навещает Россию, Петербург. Когда же он узнаёт, что убийца нашего национального гения отделался разжалованием в солдаты и высылкой из России (пустили щуку в реку!), то приходит в ярость.
29 ЯНВАРЯ 1837