"Мы знали его по известным портретам с разнообразной фактурой, с символическим реализмом и нагромождением подробностей, в глаза смеющихся требованиям пространства и времени. Как бы ни "видел" Анненков, это всегда сильная призма, и его "преломления" бьют по зрителю".
Русские рецензенты давали настолько внушительный список того, что было, на их взгляд, ошибками оформителя ("Балиев на этот раз не нашел то, что искал"), что Анненков решил объяснить прессе и публике, чего ищет художник в театре: "…декорации, встреченные аплодисментами, изобличают не столько художественный талант их автора, сколько его ум и способность угадывать наиболее чувствительные стороны в психологии массового зрителя…", "…театр является для нас той призрачной, насыщенной искусственным светом страной, куда мы уходим от своего одиночества для живого общения с людьми, к коллективной с ними работе".
Выступления Анненкова рассердило патриарха сценографии Александра Бенуа, некогда, еще в Петрограде, называвшего Анненкова "прелестным рисовальщиком". У Бенуа были счеты с теми "предателями" современного искусства, что служат "чудовищному делу постепенной подмены всего искреннего, подлинного, разумного, изящного и гармоничного кривлянием, подделкой, безумием, уродством и разложением". Бенуа ответил на поучения Анненкова, написав в "Последних новостях", что "живущие с веком" художники в наши дни пытаются доказать (себе и другим) свою причастность к актуальности и свое служение кумиру загадочной и коварной "будущности".
На этом дискуссия затихла, да она (в отличие от тогдашних газетных разносов в оставленной Анненковым Советской России) и не грозила ни одному из ее участников ни лагерем, ни расстрелом. Той же весной, когда состоялся этот обмен мнениями, у Анненкова появилась работа, о которой он вряд ли (даже шепотом) мог бы рассказать Леве Никулину. А может, и рассказал? Может, получил благословение? Как знать? Новое занятие было приятным, знакомым, веселило душу игрой - может, даже опасной. Былой издатель "Сатирикона" Михаил Корнфельд (сын петербургского издателя Германа Корнфельда и сам процветающий издатель) решил возобновить в Париже (17 лет спустя) издание "Сатирикона". Место для нового бизнеса он выбрал подходящее - неподходящим было время (начинался мировой кризис 1929 года). Когда-то в Петербурге, после ссоры издателя с Аверченко и ухода его "команды" из журнала (в 1913 году), Корнфельд привлек к работе молодежь - мало кому известного (только что из Франции) Анненкова и 15-летнего Александра Яковлева (Сашу-Яшу). Теперь, в Париже, Корнфельд, естественно, обратился в первую очередь к почтенному Анненкову, который охотно взялся за интересное дело (в любом случае рискованное). Ведущая роль Анненкова отмечена была (но еще и 20 лет спустя с осторожностью) знаменитым сотрудником этого третьего по счету "Сатирикона" Доном Аминадо в его воспоминаниях: "…главный застрельщик, блестящий Икс, который свои литературные произведения подписывал именем Темирязева, а под рисунками и карикатурами ставил другой псевдоним - Шарый… Графическая сатира таинственного Шарова была и просто замечательна".
"Шарый" стало быть серый (во всяком случае по-польски). Серый пройдет в тени незамеченным. Исследователи, узнающие руку Анненкова в журнале, высказывают предположение, что Шарый - лишь один из псевдонимов Анненкова в журнале. Специалист по "Сатирикону" Анатолий Иванов подозревает авторство Анненкова и в некоторых других работах, подписанных другими именами. Однако за неимением веских доводов и документальный подтверждений, - продолжает Анатолий Иванов, - об этом лучше умолчим. Почему умолчим? На дворе только 1993 год, а материал послан Ивановым в Иерусалим, где кучкуются доселе не окончательно обезвреженные сионисты. Но вот исследователь Рашид Янгиров ни о чем не умалчивает: он и печатает очерк позже, в 2005, да и в сионизме его не заподозришь, как Иванова (у меня вот был любимый друг Сергей Иванов, оказалось - метис-полукровка). Так вот, Янгиров пишет напрямую:
"Мы полагаем, что Анненков пользовался не одной журнальной маской. Кроме карикатур и шаржей "А. Шарого", его рука узнается (вот это уже по-исследовательски: руку за спиной не спрячешь. - Б.Н.) и в других рисунках, подписанных псевдонимами "Ш", "Шварц" (уже черный, а не серый. - Б.Н.), "С. Белавин" (тоже по-художницки. - Б.Н.), Эр Ницше (иногда - Е. Ницше), Н. Ильин (в журнальных анонсах "Юр. Ильин) и в фотомонтажах "Степаныча". Не исключено, что он был автором и некоторых литературных публикаций "Сатирикона".
Вероятно, был и литературным автором - авторов было множество, их не всех разгадаешь за псевдонимами - Апоплексий Барбаросский, Антиной Килькин, Сандро, Тощенко, К. Страшноватенко… Последние три укрывшихся, впрочем, известны: это Саша Черный, Валентин Горянский и Дон Аминадо. Сотрудничали в "Сатириконе" и Алданов, и Амфитеатров, и Адамович, и Берберова, и Гиппиус, и Евреинов, и Ходасевич, и Георгий Иванов, и Ладинский…
Анненков представил длинную галерею шаржей под шапкой "К уразумению смысла русской революции. Портретная галерея". Здесь были шаржи на многих из тех, кого дома он рисовал "всерьез" и "для вечности". Шаржи смешные, но не убийственные, за полгода существования журнала в галерею сподобились попасть и Ворошилов, и Молотов, и Крупская, и Калинин, и Литвинов, и Буденный, и Коллонтай, и Дыбенко, и Крыленко, и Микоян… Сталина, правда, в галерее не было, но он появлялся в карикатурах. Но вот старый знакомый Анненкова Луначарский - жиденькая бородка, волосатые уши, галстук в серпах-молотах, висячий нос… Он тут, пожалуй, даже симпатичнее, чем на былом кубофутуристическом, героическом его портрете: добрый старик, хотел выпустить или выгнать кого можно, даже Блока… Стихи под шаржем не похожи на анненковские:
Он драматург. Поэт. И беллетрист.
Он наш Фоблаз. Он наш король Павзолий.
И вообще, больший социалист!
Он все постиг - и негу пресыщенья,
И власти хмель, и многоженства рай…
"Сатирикон" стал событием эмигрантской жизни. И Москва стерпела, никто не был убит. Может, 1931 год был только началом. Впрочем, генерала Кутепова чекисты тогда уже выкрали среди бела дня в Париже…
Сомнительно, чтоб кого-нибудь обманули псевдонимы или чтоб не было в журнале "наших". Обычно "наши" бывали у истоков эмигрантских начинаний, занимали видные редакторские, секретарские и даже генсекские посты. Особенно в тех изданиях и сообществах, которые слыли "антисоветскими". Так что, какая-то "антисоветчина" была по причине малотиражности и для пользы дела, вероятно, даже дозволена. Эмигранты же отводили душу, читая журнальные правила работы с авторами:
"Написанного пером не вырубишь топором". Но кто сказал, что нельзя зарубить автора?"
В ностальгической сатириконовский рубрике "Города и годы" приняли участия Добужинский, Бенуа, Лукомский - так что Анненков снова попал в приличную русскую компанию. Однако и от лубянского журнала "Наш Союз" Анненкову было уйти некуда, хотя театры и кино обеспечивали ему уже неплохой заработок. 1936-й и 1937-й год ознаменовались в эмигрантском Париже новой просоветской активностью. "По каким-то причинам", пишут лукавые нынешние историки.
По каким-то причинам
Причины довольно широко известны. Именно в эти годы Москва требовала демонстраций эмигрантской любви к большевистскому правительству и к оставленной родине, где "жить стало лучше, жить стало веселей". Дело было в том, что потрясенный успехами своего берлинского ученика, за одну ночь вырезавшего былых содвижников ("ночь длинных ножей"), Сталин решил учинить небывалое кровопускание для окончательного устрашения страны, "где так вольно дышит человек".
Для этого нужны были отвлекающие акты, вроде возвращения блудных сыновей, "все осознавших" и прощенных. Отправился в Москву за богатством и славой непуганый композитор Прокофьев, вернулись художники Билибин и Шухаев, свезли бедного Куприна, который в 1925 сам высмеивал эмигрантов, одураченных Советами, но теперь уже ничего не соображал. А журнал "Наш Союз" и стремный "Союз возвращения на родину" (в обиходе называемый "Совнародом") во главе с "вербовщиком" (официальный и нелегальный его пост) НКВД Сергеем Эфроном и его дочерью-помощницей лихорадочно устраивали художественные выставки и дискуссии, даже учинили бал, который в целях экономии лубянских средств бесплатно оформляли чуть не все парижские художники-эмигранты. Анненков принимал участие во всех советских мероприятиях. Участвовал в выставке "Нашего Союза", в вечере памяти Горького и даже устраивал "чашку чая" под сенью эфроновского "Союза возвращения". И вот тут-то осторожный и практичный Анненков вдруг расслабился, забыл о дисциплине и вякнул что-то собратьям по искусству в защиту "формализма" (мол то, "что клеймится сейчас в Союзе формализмом, является в действительности борьбой за качество и как таковое соответствует общей тенденции советского строительства").
Не очень понятно, как отважился Анненков на такую ересь, за которую в России уже стреляли не отходя от прилавка? Забылся? Возомнил о себе? Но журнал, где трудилась дочь Цветаевой Ариадна Эфрон (сама, между прочим, недоучившаяся художница) отреагировал оперативно и грамотно: "Призывая художников-формалистов к идеологической сознательности, мы хотим предоставить мощный критерий, который позволит им самим разобраться в том, что в данный момент нужно или вредно для революционного искусства. Русские художники зарубежья должны это понять и сделать соответствующие выводы, если они хотят действительно включиться в творческие кадры нашей любимой родины".
Надо признать, что челночные передвижения Анненкова (между "Сатириконом" и "Совнародом") не ускользали от внимания "эмигрантской общественности". Лет через десять после смерти художника вышли мемуары тогдашнего парижанина, бесцеремонного Василия Яновского, где подытожены некоторые из эмигрантских наблюдений (пополненные, впрочем, сведениями из "Дневника моих встреч"): "…В Париже он (Анненков. - Б.Н.) переписывается с полпредом Раковским, который его приглашает "запросто покалякать"…
…Когда А. Толстой приезжает в Париж, Анненков с ним пьет коньяк… он почему-то везет графа на своей машине к Вл. Крымову…"
Толстой приехал по делам в начале 1937 года. Анненков с машиной были к его услугам. Крымова Толстой знал еще по Германии. Теперь у него было к Крымову дело, и Анненков повез его в Шату. Закусили у богатого Крымова неплохо, но о чем говорили за столом, зачем ездили, ни Анненков (подробно описавший этот визит в "Дневнике"), ни Толстой, ни Крымов не обмолвились ни словом. Не написать об этой поездке Анненков не мог, ибо она имела шумные последствия и факт его поездки был оглашен в прессе. Но и написать, в чем заключалось дело, ради которого дали командировку Толстому, Анненков не решался - даже через три десятилетия. Но был еще жив в Париже в пору толстовского визита профессиональный охотник за шпионами Владимир Бурцев (тот самый, что огорчил когда-то боевиков-эсеров, выведя на чистую воду их любимого вождя Азефа). Год спустя Бурцев публично обвинил Крымова в том, что писатель этот участвовал в организации вывоза бедняги Куприна (который, скорее всего, и сидя в поезде не понял, куда супруга его везет).
Крымов обратился за защитой в суд чести, который признав факт предосудительных контактов Крымова (а заодно и Анненкова), защитил истца, поскольку никаких документальных улик переговоров никто не оставил. На это решение суда бурный старик Бурцев (ему было уже 77) высказал свою точку зрения с той прямотой, которая Анненкову не давалась и на девятом десятке лет:
"Для меня Толстой - предатель, большевицкий агент, присланный за границу с определенными большевицкими целями… - сказал Бурцев, - Толстой в Париже благодаря ГПУ был связан с другими большевицкими агентами, как Кольцов и Эренбург, и все они выполняли поручения одного и того же ГПУ… Я всегда и при всех обстоятельствах высказывал такой взгляд на большевиков и на всех, кто так или иначе имел с ними дело и им помогал".
Выставка графики Юрия Аненкова в галерее солидного французского журнала, посвященного проблемам искусства, - Арт ет Децоратион подвела итоги успешной работе художника во французских издательствах. Парижские обозреватели уделили особое внимание книге Шероне "Интра мурос" с множеством гравюр Анненкова (пейзажи парижских пригородов).
Анненков все чаще занят теперь работой в кино и в театре, причем в театре он выступает не только, как декоратор и художник по костюмам, но и как режиссер. В течение трех лет Анненков ставил пьесы в Русском театре, в создании которого активное участие принял парижский энтузиаст-меценат Илья Фондаминский. Социал-революционера Фондаминского коммунистические связи Анненкова не отпугивали.
Среди пьес, принятых Русским театром к постановке, особый интерес режиссера-авангардиста Анненкова (и недоумение большой части эмигрантских зрителей) вызвала пьеса новой звезды эмигрантской литературы Владимира Сирина-Набокова "Событие". Вряд ли многим было понятно, о чем хотел рассказать Набоков. Пожалуй, ближе всех к пониманию этого пришел В. Ходасевич, писавший в "Современных записках" о сходстве пьесы с гоголевским "Ревизором" и о главном герое пьесы, каковым является страх. Под влиянием этого страха действительность не то помрачается, не то проясняется: "помрачается, потому что… люди утрачивают свой реальный облик, и проясняется - потому что сама эта реальность оказывается мнимой и из-за нее начинает сквозить другая, более реальная, более подлинная", сквозить в момент наибольшего страха героя. И вот в этот момент, по указанию автора пьесы, "следовало бы, чтобы опустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся группировка была нарисована с точным повторением поз".

Ю. П. Анненков. Эскизы костюмов для веселых дам
Нам приходилось однажды писать о том, чего не мог знать Ходасевич - о "событии" на пляже в Каннах и страхе, испытанном при этом драматургом Набоковым, но для рассказа об анненковской жизни и трудах это не представляется важным. Самых любопытных из читателей отсылаю за подробностями к своим книгам "Мир и дар Набокова" и "Прогулки по Французской Ривьере". Может, им покажется интересным, отчего отложив "главный роман", Набоков сел за эту зашифрованную пьесу, а потом еще и за свой первый английский роман. Здесь же для нас важнее состоявшаяся в театре заочная встреча ученика Евреинова Анненкова с поклонником Евреинова Набоковым.
Евреиновская идея "стены" давно занимала Набокова - еще в те времена, когда он исполнял в Берлине роль Евреинова в любительском обозрении на эмигрантском балу, и позднее, когда он писал, что придерживается одного-единственного сценического правила: между актером и зрителем проходит полунепроницаемая стена…
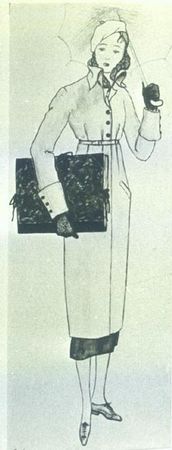
Ю. Анненков. Костюм для фильма о Модильяни
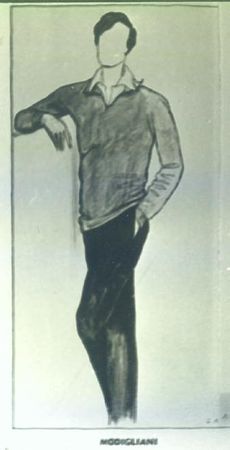
Ю. Анненков. Эскиз костюма для красавца Модильяни
Репетиции пьесы "Событие" начались в феврале 1938 года, а 4 марта уже состоялась премьера. Чистая публика, сидевшая в первом ряду, встретила пьесу ледяным молчанием, и "Последние новости" напечатали назавтра разгромную рецензию. Может, именно из-за этого на втором спектакле было так много зрителей.
На втором представлении пьесы "Событие" в первом ряду сидели друзья Набокова (Ходасевич, Гессены) и громко хохотали. В общем, это был лучший из видов успеха - скандал. Пьесу показали четыре раза - это было много для эмигрантского театра. Юрий Анненков дал интервью "Последним новостям", где объяснял случившееся:
"Русские писатели разучились писать для театра не злободневно… Сирин пробил брешь… Сирин удивительный мастер неорганизованного диалога. Жизненная правдивость "События" подчеркивается еще тем, что драма тесно переплетена с комедией, реальность - с фантастикой… Наша жизнь слагается не только из реальных фатов, но также из нашего к ним отношения, из путаницы наших воспоминаний и ассоциаций… Актеры в один голос признавались, что задача, поставленная Сириным, для них нова, а способы ее разрешения слишком трудны".
В престижном эмигрантском журнале "Современные записки" Ходасевич написал не просто об успехе спектакля, а об успехе доброкачественном, который "основан был не на беспроигрышном угождении публике, а на попытке театра разрешить некую художественную задачу… такая попытка ныне впервые сделана за все время эмиграции".
Можно добавить к этому, что попытка была сделана в тяжкие годы эмигрантской и европейской бедности и что на авансцене снова был Анненков.
Следует упомянуть, что наряду с Ходасевичем и младшим Гессеном, на этих спектаклях бывали и другие, созревшие для подобного искусства русские люди. Один из них, вполне известный драматург и поэт Валентин Горянский так полемизировал (в варшавской газете "Меч") с записными парижскими рецензентами:
"Русский театр, поставивший сиринское "Событие", убрал досадную четвертую стенку, на которой обычно самодурствуют герои Островского или ноют золотушные чеховские бездельницы… "Событием" поперхнулись и публика и рецензенты. Да и не мудрено: привычка смотреть через дырочку в сцене на скучную театральную жизнь слишком прочно засела в зрителе… Евреиновские принципы "театр для себя" пронизывают "Событие" во всех направлениях, наряду с мейерхольдовской материализацией воображаемого. Эти два элемента, особенно последний, сбивают с толку зрителя. Он глубоко провинциален, этот парижский зритель, как провинциальны и его рецезенты… пьеса лучше всего была понята самими актерами (а точнее сказать, режиссером Анненковым и писателем Темирязевым, у которого были те же учителя, что у самого Набокова. - Б.Н.). От соприкосновения с настоящим искусством они ожили, как рыбы в аквариуме, в который налили воды. О труднейшей постановке пьесы надо отозваться с полной похвалой".