- Маликов, - приказал Кобзин. - Отведи его в ревтройку. Пусть немедленно разберутся во всем и судят за спекуляцию по всей строгости, сегодня, сейчас!.. И приговор обнародовать тут же.
Спекулянт упал на колени, завопил:
- Господин комиссар, простите! Виноват!
Семен схватил его за шиворот.
- Встань! Смотреть тошно!
Спекулянт что-то говорил, обращаясь то к Семену, то к комиссару.
Кобзин махнул рукой.
- Хватит! Давай, Маликов, отправляй его. Вишь, взвыл! Кровососы! С корнем выдирать такой сорняк.
Когда спекулянта увели, Кобзин обратился к остальным:
- А вы, граждане, можете идти по домам. Вещи остаются за вами. И пшено, которое получили у этого типа. До свидания.
Едва ушли пострадавшие, как в комнату вбежал Семен.
- Петр Алексеевич! Товарищ Аистов! Крестный ход...
- А ты что, испугался? Тоже мне - красногвардеец! - насмешливо бросил Аистов.
- Так они у наших ворот, - не в силах скрыть тревоги, выпалил Семен. - Во двор ломятся. Часовые не пускают, а они - напролом!
Кобзин опрометью бросился на крыльцо.
Вся улица была запружена народом, у самых ворот стояло несколько монашек, окруженных толпой. Виднелись хоругви, иконы и большие церковные кресты, сиявшие на солнце. Какая-то старуха пыталась войти во двор, но ее не пропускали часовые, скрестившие перед ней штыки. Вдруг вперед протиснулась пожилая женщина с иконой в руках, за ней юродивая Мелания. Женщина оттерла в сторону старуху и двинулась, выставив навстречу штыкам икону. Растерявшиеся красногвардейцы разомкнули штыки. Женщина с иконой и юродивая вошли во двор, а вслед за ними потекла густая толпа. Звонкий женский голос запел стихиру, его поддержал многоголосый хор.
- Ну, кажется, начинается! - тихо сказал комиссару Аистов. - Пожалуй, дадут они нам концерт.
Толпа наводнила двор и, не прекращая пения, медленно двигалась к крыльцу. Женщина поднялась на ступеньку, обернулась к толпе и высоко подняла над головой икону. Пение оборвалось, шум утих.
- Преподобная матушка Мелания говорить будет! - прокричала женщина и опустилась перед юродивой на колени. - Говори, наша заступница перед господом! Отверзи уста свои и скажи правду нечестивым.
И вслед за ней, как по команде, из толпы понеслись возгласы:
- Говори!
- Говори, наша матерь!
- Говори, преподобная...
Юродивая, опираясь на громадную клюку, подалась вперед, стала топтаться на месте и принялась выкрикивать:
- У-у-у! У-у-у! Беси! Беси! Нечистые беси!
Женщину с иконой словно что-то толкнуло.
- Слыхали, комиссары? - завопила она. - Безбожники! Про вас говорит мать Мелания. Беси! Люди добрые, слыхали, что говорит преподобная?.. Вещай! Сказывай, матушка, дальше. Слушайте, люди!
Над толпой нависла тишина.
Юродивая закрыла лицо руками, вскрикнула, запричитала:
- Дитенок! Дитенок махонький... Птенчик. В ямку. В ямку! Дитенок - ам, ам, а его в ямку...
Юродивая бессильно опустила руки, и все близко стоявшие увидели на ее щеках слезы. В толпе зарыдала какая-то женщина.
- Детишков наших в ямку!.. С голоду! Не допусти, господи!
- Сами полезайте в яму, - прогудел чей-то бас, а вслед за ним, словно по команде, загудела, зарычала толпа.
- Сами в яму!
- Головы пооткручивать!..
Юродивая подняла руку и перекрестила толпу.
- Убили птенчика! - выкрикнула она. - И еще убьют! Господу помолимся. - Она поклонилась на все стороны, часто-часто крестясь. - За упокой! За упокой помолимся!.. За невинную душу птенчика. - Юродивая вся содрогнулась, взметнула вверх руки и, закрыв глаза, горестно зарыдала.
Послышался женский безудержный плач, причитания.
- Земля горит! - снова завопила юродивая. - Плачет мать! Плачет над птенчиком! Поклонимся господу!
Она запела протяжную стихиру. Толпа подхватила ее, но юродивая уже позабыла о стихире и, не обращая внимания на толпу, затянула веселую припевку и, приплясывая, пошла по кругу:
Ягодинка, ягодинка, ягодиночка моя...
Потом вдруг остановилась и диковатым голосом прокричала:
- Коршун, бейте коршуна!..
Комиссар Кобзин понял, что дальше он не должен оставаться безучастным зрителем этого, на первый взгляд случайно возникшего, но, по всей видимости, заранее отрепетированного представления.
Опершись о перила крыльца, приподнявшись на носки, он крикнул:
- А ну, хватит спектакля! Тише! Товарищи женщины, говорите: зачем пришли?
Уже знакомый бас из толпы прокричал:
- Степной волк тебе товарищ!
- Хлеба дайте!
- Погибаем!..
- Детишки примирают...
Кобзин сдернул с головы шапку и, подавшись вперед, заговорил:
- Женщины! Знаем о вашем горе! Поверьте мне, нету у нас хлеба. Ни зернышка. Не-ету!
- Так перестреляйте нас всех, чтоб не мучиться! - долетел из толпы голос, полный горя и отчаяния
К крыльцу снова подступила женщина с иконой.
- А ты ответствуй нам, куда вы хлеб дели? Пока был атаман, и хлебушко был!
- Я скажу вам. Хлеб атаман вывез. Заставил купцов попрятать, чтоб с голоду пухли.
Зашевелилась, загудела, закричала, завопила толпа:
- Брешешь, собака! За границу вывезли! Германцу продали! И сами продались...
Юродивая неистово взвизгнула, юлой завертелась на месте, прихлопывая в ладоши и истерично выкрикивая:
- Продались! Продались! Продались...
И снова басовитый голос в толпе:
- Бабы, бей коршуна!
На мгновение толпа замерла. Кобзин напряженно искал глазами, стараясь угадать, кто же это выкрикивает, подстрекая толпу. А людское месиво зашевелилось и пришло в грозное движение, мелькнули лопата, вилы...
- А ну, ни с места! - пророкотал Аистов и, выхватив из кобуры наган, выстрелил в воздух.
Толпа ойкнула, подалась назад, словно сжалась.
- Маликов, пулемет!
Семен будто ждал этой команды, рывком выкатил на крыльцо пулемет, припал к нему.
- Осторожно, бабоньки, - крикнул он, довольный произведенным впечатлением, - эта штука кусается!..
Толпа отхлынула к воротам. На месте осталась только женщина с иконой. Она подступила еще ближе и, не скрывая всей своей ярости и ненависти, закричала:
- Стреляй! Стреляй, ирод!
- Никто стрелять не будет, - сказал Кобзин и громко, как позволял его не очень зычный голос, заговорил, обращаясь к настороженной и возбужденной толпе: - Граждане, успокойтесь! Никто стрелять в вас не будет. Мы стреляем только в тех, кто поднимает против нас оружие, а вы нам не враги. - И, обернувшись к Маликову, он приказал: - Пулемет обратно!.. Подходите, женщины, ближе, и давайте поговорим.
Матушка Евпраксия за воротами металась от одной группы к другой, пока снова не зазвучали протяжные песнопения и крестный ход не двинулся дальше. Но шли не все, - многие вернулись во двор и несмело подступали к крыльцу.
- Неужто вы могли поверить, - продолжал Кобзин, - что мы прячем хлеб?! Да вы посмотрите, кто в ревкоме и Красной гвардии: ваши соседи, ваша родня, знакомые... Вы знаете, что на днях мы схоронили своих товарищей из продотряда. Где они погибли? Ездили в станицу, чтоб добыть хлеб для вас, для ваших детишек, а кулаки их убили.
Протиснувшись, на крыльцо взбежала Надя.
- Нашла я хлеб, - поспешно зашептала Кобзину в ухо. - В монастыре. Стрюковский хлеб. Там столько зерна, весь город накормить хватит!
Кобзин метнулся к Аистову.
- В монастыре есть хлеб! Вот она, Надя... Понял? Срочно посылай эскадрон, перекрой все ходы и выходы!
Аистова словно ветром сдуло.
В толпе заметили замешательство и перешептывание, возникшие с приходом Нади. Было понятно - речь идет о чем-то большом и важном.
Прислушиваясь и стараясь уловить смысл разговора, люди напряженно ждали, а когда с крыльца ринулся Аистов, перед ним торопливо расступились.
- Граждане, товарищи! - захлебываясь от радости, не заговорил, а закричал Кобзин. - Нашли припрятанный хлеб... Много хлеба!
Семен понял, кто принес эту новость. Он тихонько толкнул Надю локтем и приветливо кивнул ей.
Немного погодя, в кабинете, Кобзин, усадив Надю, опустился на стул рядом.
- Ну, давай рассказывай подробно о своей операции! Как тебе это удалось?
Рассказ получился настолько коротким, что Кобзин удивился.
- Все? - спросил он.
- Да, - ответила Надя.
Кобзин подошел к ней и крепко обнял.
- Молодец, Надя. Ты очень помогла нам. Между прочим, я подозревал, зачем ты ушла в монастырь. И немного удивился, когда Семен рассказал о вашей встрече. Но об этом не стоит.
- А знаете, Петр Алексеевич, что я вам скажу? Ведь я не из-за хлеба ушла в монастырь. О хлебе тогда даже позабыла...
- Как? - удивился Кобзин. - Неужто решила в монахини? Не похоже на тебя.
- Мне было так горько, так обидно...
- Нет, вы только подумайте, ее обидел Козлов, а она рассердилась на весь отряд! Как же тебе не стыдно, Надежда Корнеева?
- Вот и не стыдно, - решительно сказала Надя.
- Надо было драться за себя! Честное слово, не ожидал... Ну, а дальше как собираешься жить? Мы все считаем тебя бойцом отряда. Да, кстати, - спохватился Кобзин, - тебе есть письмецо.
Он достал из ящика стола замызганный самодельный конверт из серой оберточной бумаги.
- Из Урмазыма... От тети! - обрадовалась Надя и торопливо пробежала глазами коротенькое письмо.
- Что там? - спросил Кобзин, заметив, как побелело ее лицо.
- Дядю убили... И Костя, братишка, тяжело болен.
Кобзин взял письмо, осмотрел. Оно было отправлено два месяца назад.
- Я поеду. Туда... - чуть слышно прошептала Надя.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
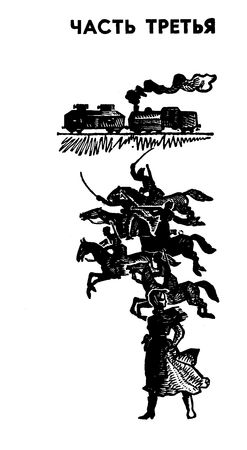
Глава первая
Во время крестного хода Иван Никитич не выходил из своей комнаты. Спрятавшись за шторой, он напряженно следил за тем, что происходило на улице, а когда толпа ворвалась во двор, он перебежал к другому окну и, радостно потирая руки, зашептал:
- Жми, любезные, жми, православные!
Он не ожидал, что дело может дойти до большого, но его радовало и то, что толпа готова была расправиться с комиссарами и всякими там ревкомовцами; значит, таких, как он, в городе сотни, а может, тысячи; сидят они до поры до времени да помалкивают, а придет час, снова все вокруг закипит, забушует!
Хотя толпа и отступила перед пулеметом, настроение Ивана Никитича не ухудшилось. Само собой понятно, в крестном ходе почти одно бабье; а были бы мужики, тоже вряд ли поперли бы на верную смерть: любой человек спасует перед пулеметом.
Ничего, посидят еще малость с пустыми животами, полезут и на пулемет.
Появление Нади встревожило и обеспокоило Стрюкова. Почему она не вместе с монашками? Зачем сюда явилась из монастыря? Что ей нужно?
Вскоре двор опустел. Стрюков решил выйти на улицу, но его позвали к комиссару.
В кабинет Иван Никитич вошел степенно, стараясь не выдать своего волнения.
На краешке письменного стола примостился Кобзин и, горячо жестикулируя, что-то говорил сидевшей напротив Наде.
- Игра окончена, гражданин Стрюков, - резко сказал комиссар, едва купец перешагнул порог. - Нашли ваш хлеб.
- Нашли, так и слава богу...
- Прятали пшеницу в монастыре?
- Ежели нашли, то чего же вы меня спрашиваете? Исстари так ведется, нашел - бери.
Вопрос Кобзина показался Стрюкову подозрительным. Возможно, не только не нашли, но даже ничего определенного не знают, а пытаются выудить у него.
На всякий случай, он решил немного поводить Кобзина.
- Только я вам должен сказать, товарищ комиссар, что я ничего не терял, и, стало быть, никто не мог найти. Вот так.
- Я сама видела в монастырских амбарах ваше зерно, пшеницу, - сказала Надя.
- А как же ты узнала, что это мое? Печать там на каждом зернышке или еще что заметила? - издевательски спросил Стрюков и, обратившись к комиссару, решительно заявил: - Моего зерна в монастыре нет.
- Странно! - Кобзин подал Стрюкову исписанный чернилами лист. - Монастырские хозяева совсем другое показывают, читайте. Мне только что доставили.
Стрюков нерешительно взял бумажку. Это была расписка Евпраксии в том, что монастырский хлеб ссыпан в деревянном амбаре, а в каменных хранится зерно, принятое на хранение от купца Стрюкова.
- Ну, что еще скажете? - спросил Кобзин.
Стрюков молча положил на стол ненавистную расписку.
- Так что теперь говорить, - невольно вздохнул он и с горечью подумал: "Вас я понимаю, а вот монастырских, язви их в душу!"
- Так, значит, вы врали, когда я спрашивал о запасах продовольствия? Помните?
Стрюков угрюмо глянул на комиссара.
- Отнекиваться не стану, было! - нехотя сознался он, потом проговорил торопливо и сбивчиво: - Только вы и то поймите - купцу не пристало рассказывать про свои дела. Ну, есть у меня в городе... хлеб. Есть. Вот этот, в монастыре который.
- Сколько там всего вашего хлеба?
- Да так пудов... тысяч с двадцать.
- До возвращения атамана берегли?
- Зачем? - возразил Стрюков. - Торговые дела. Думал, цены могут подняться. Прикажете, велю открыть торговлю. В любой момент.
- Да нет уж, спасибо, - с иронией улыбнулся Кобзин. - Сейчас мы сами как-нибудь распорядимся.
- Или забрать хотите?
- Конфискуем... Нет! - возмущенно сказал Кобзин, обращаясь к Наде. - Хватило же совести скрывать, когда кругом стон стоит!
- Не я этот голод устроил, - буркнул Стрюков.
- А кто же? Кто? - набросился на него Кобзин. - И вы и такие, как вы. Я уверен, что хлеб припрятан и у других купцов. В общем довольно разговоров, - решительно встал он. - Даем вам двадцать четыре часа. Поговорите с кем надо. Если за сутки не укажут, где еще спрятано продовольствие, завтра утром вы будете расстреляны на городской площади как враг революции.
Эти слова, произнесенные жестко и непримиримо, прозвучали для Стрюкова как приговор.
- Так при чем же я? - взмолился Стрюков. - Каждый за себя отвечает.
- А при том при самом. И скажите своим дружкам: если будут саботировать, всех переберем! Ясно?
- Воля ваша, товарищ комиссар, только я не могу отвечать за других, поймите это.
- А вы понимали, когда к вам обращались по-человечески? Идите, не теряйте времени зря.
Стрюков, сгорбившись, вышел.
Глава вторая
- Неужто расстреляете? - спросила Надя, когда за купцом закрылась дверь.
- Без всякой жалости! Такие, как он, заслуживают самого жесткого наказания. Я не могу избавиться от мысли - сколько людей осталось бы в живых, если бы Стрюков и ему подобные не скрыли хлеб? Э, да что говорить!.. А ты растерялась? Смутилась?
- Нет, я просто спросила.
- Очень хорошо, - добрея, улыбнулся Кобзин. - Значит, вопросов больше нет?
- Нет.
- Тогда продолжим наш разговор. Как я понял, в тех краях ты никогда не бывала. А мне доводилось. Дорога очень трудная, в особенности сейчас. До станции Айдырля придется ехать поездом, а поезда нынче - одно наказание: в вагонах холодина, паровозы простаивают, топить нечем... Но и это не самое главное. Трудность и, скажу прямо, опасность в том, что по пути почти всюду беляки. Наши только в Заорье да на золотых приисках. Путь очень опасный. Я не к тому говорю, чтобы напугать тебя и отговорить от поездки, я хочу, чтоб ты знала, какие неожиданности могут тебе встретиться в пути. Конечно, возможно, все сойдет благополучно. И я уверен, так оно и будет, но все же надо быть готовым к худшему. Самое страшное - это, конечно, беляки. Они просто зверствуют. Да ты сама знаешь, как они обошлись с нашим продотрядом.
- А если ехать не поездом?
- Или пешком хочешь двинуться?
- Где как. Где пешком, а где с попутчиками. Ездят же люди из станицы в станицу?
- Да, конечно... Что касается передвижения пешком, сейчас об этом надо оставить и думать. Зима! Степи без конца и края. От станицы до станицы больше полусотни верст. Прихватит в степи ветер, завьюжит - и конец. Нет, пеший поход отложить. На лошадях и то люди сбиваются с дороги. И опять же, встречи с беляками не избежать, они засели почти в каждой станице, в каждом поселке... Нет, если решила ехать, то двигай поездом.
- А вы мне какой-нибудь документ дадите?
- Значит, едешь?
- Поеду, Петр Алексеевич.
- Ну, что ж, удачи тебе!.. А насчет документа я вот что скажу: у тебя есть какое-нибудь старое удостоверение или справка? Это не для наших, а на тот случай, если придется столкнуться с беляками, чтоб глаза им замазать.
- Что-то осталось. Старый гимназический билет.
- Ну и замечательно! Будешь выглядеть как представительница привилегированного класса, - пошутил Кобзин. - Конечно, справка справкой, но они, кроме всего прочего, могут еще и допрашивать. В таком случае я тебе советую вот что: не придумывай никакой истории, говори, что есть.
- Как? - удивилась Надя. - И об отряде?!
- Вот, вот, - рассмеялся Кобзин. - Только этого и не хватало. Ты говори им о том, что жила у Стрюкова, что жить больше негде, расскажи, куда ты идешь. Если получится, слезу подпусти.
- А что? Так можно... О себе хоть десять раз рассказывай, не собьешься.
- Что же касается встречи с нашими, то тут будет иной разговор.
В дверь несмело постучали, и в комнату вошел Иван Никитич. Это был уже не тот Стрюков, который не скрывал самоуверенности и насмешливо поглядывал на окружающих. Сейчас он был во власти страха, и хотя старался скрыть свое состояние, это ему мало удавалось. Прежде всего выдавали глаза: они шныряли по комнате и убегали от глаз Кобзина.
- Я на два слова. Можно?
- Можно и больше, - сказал Кобзин. - Только на пользу.
- Само собой... Я насчет своего хлеба.
- Какого еще своего?
- Ну... значит, не то чтоб своего, а того самого, монастырского, который в монастыре, - сбиваясь, залепетал Стрюков. - Уж коли так случилось, то, видно, так тому быть: словом, я жертвую тот хлеб на революцию. Конечно, вы его забираете сами, я это понимаю, но я в общем как хозяин бывший - не против. Жертвую специально на голодающих. Чтоб на вас не возводили поклепа. Дарю, и все!
- Эх, раньше бы вот так! - с сожалением сказал Кобзин. - А сейчас ваша доброжелательность никакой роли не играет. Что касается разной болтовни - мы ее не боимся.
- Петр Алексеевич, товарищ комиссар, я же не все сказал, - заторопился Стрюков. - Вот вы мне расстрелом грозитесь, а я, видит бог, ничего не могу и не знаю насчет дел других купцов. Я, конечно, понимаю: нельзя было так. Ну не волк же я, в самом деле. Люди-то голодают...
- Нельзя ли покороче? - прервал его Кобзин. - Чего вы, собственно, хотите?
- Снимите с меня обязанности насчет купцов, а я, под честное слово, помогу вам, чем смогу. Так сказать, совершенно добровольно и без всякого принуждения.
- Вот это деловой разговор, - сказал Кобзин. - Так что вы предлагаете?
- У меня есть табуны скота, в степя их угнали, к киргизским баям. Все отдаю! Жертвую! Для голодного люда.