Отступление
Да простит меня любезный читатель, но, я чувствую, что без очередного отступления не обойтись. И оно, на самом деле, необходимо.
Иные легко витийствуют о войне, сидя в уютном домашнем кабинете или в офисе. Они, даже напрягая воображение, никак не могут представить себе реальный солдатский окоп, удачный бой или вынужденное отступление, цинизм и глубину нравственного падения фашистов. Но, сочиняя что-то о войне, возмущаются "бездарными" русскими солдатами и офицерами и возносят кадило по поводу "талантов" фашистских полководцев.
Другие, утопая в глобальном комфорте, приятно рассуждают про то, что какой офицер, в каком бою был смел или наоборот - труслив. Даже среди них нашлись те, кто потребовал, чтобы Красная армия (спустя 70 лет!)… сдала фашистам Ленинград: мол, тогда меньше погибло бы людей в блокаду.
Ой, какие человеколюбивые россияне! Пожалели блокадников!
Увы, их жалость, напоминающая цинизм фашистов, не имеет никакого отношения к исторической Правде.
Историю, как знает всякий, нельзя повернуть вспять; нельзя к её событиям и фактам делать приставку "если бы".
Так какой же смысл отдавать врагу Ленинград задним числом?
И, наконец, из тьмы перестройки вышли третьи, самые многочисленные, их хлебом стало искажение той самой Правды, фальсификация событий Великой Отечественной войны. Они марают "чёрной краской" не только "сталинский режим", но и рядовых солдат, офицеров, ещё живых и уже мёртвых, которые и добыли Великую Победу.
По их мнению, всю эту Победу вместе с Советским Союзом немедленно следует опрокинуть в выгребную яму.
Господи!
До чего опустились люди!
Трава забвения буйствует в их сердцах и душах, манкуртизм, то есть беспамятство, возведено едва ли не в самое благородное качество личности.
Разве могли представить такой поворот наши бойцы, погибавшие в атаках?
И вот уже некий Резун (Суворов, перебежавший на Запад), выполняя правительственное задание приближённых к Ельцину, начал штамповать роман за романом, начиняя их гнилыми словами, злой клеветой, гнусными домыслами, оскорбляющими память русских солдат, офицеров, генералов.
Сколько наврал он всякой чепухи в своих романах!
И везде его опусам давали и продолжают давать "зелёный" свет.
Известный наш писатель-фронтовик Владимир Богомолов, автор популярного романа "Момент истины", встретив на улице Москвы знакомого полковника, доктора исторических наук, спросил напрямик:
- Почему бы российским учёным, занимающимся историей Великой Отечественной войны, не выпустить сборник материалов, разоблачающих и опровергающих пасквили Резуна?
- Такой книги у нас никогда не будет! - честно ответил военный. - Неужели вы не понимаете, что за изданием книг Суворова стоит правящий режим, что насаждение этой идеологии нужно находящимся у власти?
Да, бывший фронтовик догадывался об этом.
Писатель сам всё расследовал, и, оказалось, что полковник прав. Лингвистический анализ засвидетельствовал, "что у книг В. Резуна "разные группы авторов" и основное назначение изданий - переложить ответственность за гитлеровскую агрессию в июне 1941 года на Советский Союз и внедрить в сознание молодёжи виновность СССР и прежде всего русских в развязывании войны, унесшей жизни двадцати семи миллионов только наших соотечественников, эти клеветнические публикации по-прежнему поддерживаются находящимися у власти в определённых политико-идеологических целях".
Мишени всегда разные, и стреляют по ним не всегда так грубо, как делает это Резун.
Некоторые авторы утверждают, что в октябре 1941 года генерал Масленников отмёл приказ заместителя командующего Западным фронтом, чем и усугубил ситуацию под Ржевом, тайно обжаловал приказ в Москве у Берии, с которым имел связь.
Конев только уже после войны узнал на допросе Л.П. Берии о действиях Масленникова, когда был председателем суда над Берией.
Можно ли полностью доверять этому признанию прославленного маршала? Думаю, вряд ли. Нельзя на сто процентов принимать такие его слова за чистую монету. Считать, что Масленников отверг приказ - будет ложью, но и утверждать, что он выполнил его, как требовала обстановка, тоже нельзя.
Однако, выполнять-то его он выполнял, что мы и увидим дальше по ходу повествования.
14
Истина, как часто и бывает, лежит в "золотой середине", а точнее в том, как всё происходило в реальности, теперь уже довольно далёкой от нас.
В тот день, когда генерал Конев уехал из Ржева, штаб 29-й армии издал приказ дивизиям наступать и уничтожить противника в районе Старицы. После этого войска должны были занять оборону на левом берегу Волги. Тогда же по распоряжению штаба был создан "Ржевский боевой участок" из двух дивизий.
В тот же самый день происходили и другие события. Горожане видели, что скопилось много наших войск на улицах, прилегающих к реке. По мосту через Волгу в Ржеве отходили части двух армий - 29-й и 31-й. Своё продовольствие и имущество, которое военные хранили на городских складах, они частично успели вывезти, частично уничтожили прямо на месте, частично просто бросили.
Никаких особых причин оставлять город не было, однако его оставили.
Перед нашествием врага Ржев оказался открытым и беззащитным, словно ребёнок.
И вот 14 октября 1941 года фашисты одновременно вошли в два крупных центра Калининской области - в Ржев и Калинин.
Этот день стал, наверное, самым трагическим, самым черным днём во всей многовековой истории тверской земли.
В предместьях Ржева, в захваченных деревнях, немцы сразу убивали из автоматов всех собак, чтобы они не мешали им грабить народ - отбирали продукты, вещи, фураж. Даже заставляли жителей открывать ямы, где хранилась картошка и овощи, и всё оттуда выгребали. Пробежит ли какая курица, прокукарекает петух, заблеет ли овца - всё шло на стол фрицам.
В самом городе они с остервенением разрушали коммунальные предприятия, больницы, музеи, вырубали парки, аллеи.
Оккупанты жёстко наводили свой порядок. Всех, кто мог что-то делать, жандармы и полицейские, размахивая плётками и пистолетами, выгоняли на работу. Если отказывались - избивали, уничтожали. Истощённые муж и жена Петровы, им было по 70 лет, не смогли выйти, их расстреляли. Целыми семьями расстреливали без всякого суда. Новым хозяевам показалось мало безвинных жертв, они ввели публичные казни, чтобы те, кто остался в Ржеве, были деморализованы и трепетали от ужаса.
В центре Ржева поставили виселицу, и, объявив партизанами, вздёрнули на ней учителя истории А. Тимофеева, директора льнозавода А. Бунегину, начальника почты Т. Лукьянова. Страх перед народными мстителями настолько засел в фашистах, что всякий раз этой ссылкой они прикрывали собственные преступления.
У моста через Волгу, собрав жителей, начали показательную казнь тех, кого хорошо знали в городе - баяниста Дроздова, адвоката Медоусова, бухгалтера Виноградова, заведующего магазином Орехова и ещё нескольких. Картина должна была повергнуть в шок присутствующих. На каждого "выявленного партизана" бросалось сразу несколько немецких солдат, они стреляли жертвам в голову, в тело.
Адвокат Медоусов снял шапку и громко крикнул:
- Советский Союз непобедим!
В голову адвоката вонзилось сразу несколько пуль.
Так рай, обещанный фашистами на занятых ими территориях, в яви превращался в Ржеве в зловонный ад. Фашисты убивали жителей ради забавы, от нечего делать. Был такой случай. Женщины пошли на колонку за водой, и не успели дойти до места, когда автоматная очередь в спину скосила их. Это произошло на глазах у десятилетнего мальчика, который, увидев упавшую впереди мать, подбежал к ней, заплакал, но и его настигла пуля, бездыханный подросток упал на мёртвую мать.
Особенно зверствовали "хозяева" в организованном ими "Ржевском городском концлагере". В постройках базы "Заготзерно", некоторые из них стояли без крыш, загоняли узников, многие спали на голой промёрзшей земле, друг на друге, в несколько слоев. Военнопленным и партизанам не давали воды, кормили дрянь-жидкостью под названием баланда; беспрерывно дымил крематорий, сжигая трупы.
Ржев фашисты взяли налегке, полагая, что таким же парадом они войдут и в Калинин. Но фрицы просчитались, вышла осечка. На подступах к областному центру их встретил мощный огонь, атаки наших бойцов. Немецкое командование недоумевало: откуда силы у Красной армии? Ведь она же, по их мнению, фактически вся была окружена и уничтожена под Вязьмой!
Откуда у русских такое ожесточённое сопротивление?
Превосходя советских бойцов в живой силе примерно в десять раз, используя быстрые танковые и моторизованные группы, фашисты потеснили батальоны 5-й дивизии и полки народного ополчения. Но с ходу, быстро они так и не смогли занять полностью город ни с запада, ни с севера, ни с юга. Бои шли круглые сутки, в бой вступали новые части Красной армии. Завязались настоящие танковые сражения у Горбатого моста, у южного выезда на Москву. Фашисты несли потери в танках, пушках, личном составе, каких им ещё не приходилось нести за все четыре месяца войны на Восточном фронте.
Тем не менее, находясь в эйфории от победы, командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал фон Бок поспешил уведомить Берлин, что Калинин взят полностью, что он успешно развивает наступление на Москву, хотя немцы не продвинулись дальше железнодорожного вокзала.
Когда же им всё-таки удалось занять часть центра, фашисты попытались прорваться на Бежецк. Двигаться в том направлении можно было только по довольно узкому мосту через Тверцу, притоку Волги. Но, опережая врагов, с той стороны - с бежецкой, к мосту подошла батарея лейтенанта А. Кацитадзе и один стрелковый батальон. В батарее имелось четыре противотанковых орудия. Комбат, умелый маскировщик, поставил два орудия во дворе с глухим забором, их нельзя были увидеть даже в бинокль, а два других спрятал в стороне, на фланге.
Бойцы артиллерийских расчётов понимали: если фрицы прорвутся по мосту на их берег, то деваться некуда. Чтобы не погибнуть, надо было одержать верх, иначе - смерть.
Танковая колонна фашистов со стороны центра появилась, когда наши артиллеристы уже расставили орудия и были готовы к бою.
Головной немецкий танк прибавил обороты, он рассчитывал на большой скорости проскочить мост. За ним усилили ход и другие бронемашины.
В тот момент, когда головной танк доехал до середины моста, на берегу открылись ворота забора, и оттуда грянул пушечный залп. Снаряды резанули по фашистскому танку, разорвали ему гусеницу, и он, не успев скинуть обороты, развернулся поперёк моста. Второй запл пробил броню подбитого танка, и он загорелся.
В колонне возникла паника.
Другие танки не могли развернуться на узком пространстве моста, и вскоре также были расстреляны в упор бойцами батареи лейтенанта Кацитатдзе.
Над Тверцой полыхал костёр из трех фашистских танков.
Через какое-то время враги попытались стащить с моста горящие машины, но потеряли ещё один танк.
До конца суток фашисты уже не делали попыток занять мост.
В тот же самый день генерал фон Бок, заботясь о перспективе своего наступления, издал приказ для войск 9-й, 16-й армий и 3-й танковой группы. Говоря о "дальнейшем уничтожении противника", генерал ставил задачу: группировка "как можно быстрее достигает района Торжок и наступает отсюда без задержек на Вышний Волочек для того, чтобы предотвратить переправу основных сил противника через реку Тверца и верхнее течение реки Мста на восток.
Необходимо вести усиленную разведку до рубежа Кашин-Бежецк-Пестово".
До намеченного фашистами взятия Торжка оставалось ровно 10 дней.
Глава 3
Марьинские клещи
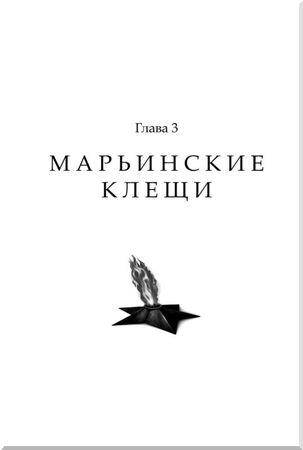
1
Тяжелый гул со стороны Ржева нарастал, усиливался, приближался.
Гул зловещий, наводивший страх.
И всё-таки самолёты фашистов с чёрными крестами на крыльях возникли над кромкой ближнего леса как-то неожиданно. К их налётам невозможно было привыкнуть.
Дети сразу всполошились.
- Опять летять, опять бомбять! - закричала Маша, самая проворная из девочек, игравших у колхозной конюшни. - Скорей бяжим на Логовежь, под вятлу, а то до дому не успеем.
- Бяжим, бяжим! - громко кричала Маша.
Подружки опрометью кинулись от конюшни. Только мелькали их подшитые валенки, да на ветру развевались платья, вылезавшие из-под телогреек.
Прибежав на берег реки, они, будто птенцы, упавшие из гнезда, забились под коренья раскидистой ветлы, где была вырыта яма, из неё брали песок. Дети почувствовали себя в безопасности.
- Сюда они не полетять, - шепотом уверила подружек Маша Сидорова. - Мы посидим, посидим и пойдём назад, когда они улетять.
Подружки слушались её. Нина Соколова, всхлипнув, сквозь слёзы сказала:
- Меня мамка искать начнёт, она подумает, что меня убили, мамка меня будет ругать.
- Не убьют! - возразила Маша. - Здесь тихо!
В яму, где спрятались подружки, долетал гул моторов, вой падающих бомб, эхо взрывов со стороны села. Но им, сидевшим в яме, казалось, что всё это происходило не рядом, в родном селе, а где-то далеко-далеко, в какой-то чужой стороне.
Так война врывалась в детство деревенских девчонок и мальчишек повсюду в прифронтовой полосе; ломала, коверкала их детство.
И село Марьино не было исключением.
Это село располагалось в двадцати километрах от Торжка, на юго-западном направлении, на знаменитом когда-то почтовом тракте Петербург-Москва. Тракт давно превратился в широкую автостраду, по которой тянулись наши армейские машины, техника, гужевые повозки; за ними фашисты охотились с воздуха. И если летом немцы не трогали населённые пункты, стоящие по сторонам дороги, то осенью наносили по ним авиационные удары, будто деревни являлись военными объектами.
Жить в Марьине стало страшно!
Самолёты с крестами, появлявшиеся внезапно в холодном октябрьском небе со стороны Ржева, не щадили никого и ничего, уничтожали всё подряд. Больше, чем взрослые, этих налётов боялись беззащитные дети, что вполне естественно. Страх нагоняли и местные трагедии. Рядом с Марьиным, в деревне Тетерлево, бомба попала в дом колхозной семьи Волковых, девочку Катю убило насмерть, а её старшую сестру Валентину ранило осколками в спину и ногу. Хорошо, что успели отвезти Валю в военный медсанбат, в нашу воинскую часть, что стояла ближе к Торжку, девчонке спасли жизнь.
Учителя, опасаясь, как бы немцы не начали стрелять в детей прямо с самолетов (для врагов это было удовольствием и развлечением!), отменили занятия в школе. Поэтому подружки Маша, Нина и Вера и решили пойти поиграть в свои секреты у конюшни.
Путешествуя по Руси неоглядной, иногда попадёшь в какое-нибудь село, где, будто в зеркале, отражена душа народа. Таково и Марьино! Открытое для всех, оно вольно раскинулось вдоль тракта, привлекая резьбой на избах, церковью в честь иконы Божья Матерь Казанская, добрыми, хлебосольными хозяевами. В старину в Марьине проживало 600 душ. Здесь к услугам жителей были молочная лавка, трактир, питейное заведение, на горе - кожевенный завод. Умельцы из Марьина славились далеко в округе. Они выделывали овчины, коровьи и козьи шкуры, шили тулупы и обувь, красили шерсть, валяли валенки, ковали в кузнях, нанимались в извозчики и прислугу. И, не оставляя ремёсел, превосходно крестьянствовали. Лён царствовал на полях. Да какой лён! Волокно получалось лучше заморского или азиатского.
Не пустовали фермы и конюшни, скота имели вдоволь.
До войны в Марьине работал славный колхоз "Борьба". Да и в округе, в 14 крупных деревнях, были свои колхозы. Десятки ферм, четыре конюшни, телятники, навесы для техники, риги, склады - не перечислить того, что имели колхозы. Чтобы добро не попало к фашистам, скот угоняли, технику увозили. Но не заберёшь с собой поля! Вокруг Марьина осталось несколько плантаций картофеля, их не успели убрать. И они сослужили добрую службу в голодную осень 41-го. Сюда, рискуя быть убитым или попасть под бомбу, приходили жители, копали картошку, а из неё делали люски - так называли в Марьине картофельные оладьи.
- Эх, напекла бы мамка люсков, - мечтала, сидя в яме, Маша Сидорова, - есть охота. Люски, знаете, какие вкусные!
- И я есть хочу, - не утерпела худенькая Вера Ткачёва. - Сильно хочу. Маша, давай пойдём, вон темнеет, скоро ночь, а мы всё сидим да сидим.
- Давай пойдём, - согласилась Маша.
Девчонки выбрались из-под ветлы, пошли в сторону села. Оттуда им навстречу плыл дым пожарищ. В центре Марьина горели четыре дома, столбы пламени вздымались в небо. Полыхало и одно из деревянных зданий начальной школы. В переулках между домами зияли воронки, в одной из них лежала убитая старушка.
- Мне страшно, - всхлипнула Нина Соколова, - побегли быстрее по своим домам.
- Побегли быстрее, - подхватила Маша.
Подружки побежали, каждая к своему дому.
Дом Сидоровых стоял в центре Марьина. Подбегая к дому, Маша увидела мертвого солдата. Он лежал прямо на дороге, под ним застыла бурая лужица крови, рука была приложена к виску, будто солдат отдавал честь старшему офицеру - это был красноармеец. Чуть подальше от него лежал ещё один убитый, и по тому, что одет он был в незнакомую одежду, девочка поняла, что тот - фашист. Ей стало страшнее, чем когда она увидела старушку в воронке.
Пока подружки хоронились в яме, немцы не только бомбили село, но и спустили с самолётов десант, в Марьине завязался бой. Наши отступили, фашисты оккупировали село.
- Где ж ты шляешься? - накинулась мать на Машу. - Кричала, искала тебя, а ты, как сквозь землю провалилась. Где ты была?
- Под вятлой мы прятались, - ответила Маша. - Я с подружками там от самолётов хоронилась.
- Под вятлой! - мать не поняла дочку. - Под какой ещё вятлой? Ох, задала бы я тебе порку, да не ровен час, в Свищево надо уходить.
- Зачем, мама, уходить? - спросила Маша.
- Зачем, зачем! Не видишь разве? - мать всё ещё не могла скрыть своего недовольства поведением Маши. - Немцы в Марьине, уходить надо, а то, неровен час, и прибьют. Собирайся, помогай мне.
В семье Сидоровых было восемь детей. Старшему сыну дали "бронь", он трудился на заводе имени Лихачева в Москве, а остальные были все тут. Хозяина забрали на оборонные работы под Торжок, и он оттуда пока не вернулся. Когда стемнело и стало безопасно идти, Сидоровы оравой, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться, побрели в Свищево, в деревню в километре от Марьино, там жили родственники.
Многие уходили из родных изб, опасаясь врагов.
Фашисты, заняв в Марьине лучшие из уцелевших домов, резали хозяйскую живность, жарко топили печки, жарили свежатину и жрали, отогревались от наступивших холодов. Пировать им пришлось недолго. На третьи сутки сильным ударом наши войска выбили их из Марьина, десант, в основном, уничтожили, частью рассеяли.
Трупы фашистов увозили и спихивали в заброшенный колодец, на горе, где когда-то стоял кожевенный завод.