13
Баварцы на одре болезни
Писатель доктор Лоренц Маттеи решил проведать писателя доктора Иозефа Пфистерера. У того был удар, с тех пор он непрерывно болел и, судя по всему, доживал последние месяцы. По дороге доктор Маттеи размышлял о том, до чего же, в сущности, хлипки его дюжие баварцы. Крепыш Пфистерер плох, гигант Кленк и того хуже, да и сам Маттеи не в лучшем виде.
Когда он пришел, Пфистерер сидел в глубоком покойном кресле; несмотря на жару, ноги больного были укутаны одеялом из верблюжьей шерсти, рыжеватая с проседью борода и густые кудрявые волосы покрылись каким-то пепельным налетом. Доктор Маттеи силился изобразить на своем злом, бульдожьем лице участие, смягчить грубый голос. Пухленькая, заботливая г-жа Пфистерер то выходила из комнаты, то снова входила, не закрывая рта, болтала, от всех ждала сочувствия и ободрения. Пфистерер бунтовал против этой удушливой больничной обстановки. Он не очень-то верил врачам. Даже когда многоопытный мюнхенский терапевт, умный и суровый доктор Мориц Бернайс, без всяких околичностей объяснил всю серьезность его болезни, Пфистерер отмахнулся от слов врача. Нет, его уложили в постель отнюдь не физиологические неполадки. Истинная причина - Пфистереру трудно было формулировать свое ощущение, но оно не покидало его, владело им, особенно по ночам, когда в одиночестве он все думал, думал и размышлял, - истинная причина крылась в невыносимом сознании, что он дожил до пятидесяти лет слепцом, что на его родине властвует несправедливость, да и вообще мир не такое уютное местечко, каким он рисовал его и самому себе, и своим читателям.
Так что если Маттеи напускал на себя участливую мягкость, Пфистерер проявлял агрессивность, несвойственную ему, когда он был здоров. Он не желает, чтобы ему в нос все время шибало больницей, кричал он надтреснутым голосом. Не собирается жить под колпаком. Сегодня он все утро писал и диктовал. Работал над воспоминаниями - он назвал их "Солнечная орбита одной жизни". Пфистерер не собирался разводить сантименты по поводу смерти. Смерть и рождение неразрывно связаны, и среди множества реальностей бытия смерть отнюдь не самая примечательная. Тут он принялся рассказывать потешные истории о том, как умирают баварские крестьяне, - он или был очевидцем этих смертей, или знал о них понаслышке. Например, был у него знакомый крестьянин, который, начав чихать, потом никак не мог остановиться. Особенность малоприятная, но его домашние притерпелись к ней. Стоило папаше расчихаться, как все восемь отпрысков начинали считать, сколько раз он чихнет: сорок два, сорок четыре или сорок пять. Пфистерер присутствовал при кончине этого крестьянина. На смертном одре старика снова одолел чих. У кровати умирающего стояли все домочадцы и, по обычаю, считали, а так как в этот день старик превзошел самого себя, они начали гоготать. Еще бы! Пфистерер тоже не удержался от смеха. Чихнув восемьдесят второй раз, крестьянин под громовой хохот отдал богу душу.
Больной разговаривал так бодро, что и доктор Маттеи перестал деликатничать, сбросил маску тошнотворно торжественной мягкости. По давней своей привычке, приятели начали осыпать друг друга отборной бранью. Доктор Маттеи заявил, что "Солнечная орбита одной жизни" наверняка окажется такой же вонючей дрянью, как и все прочие Пфистереровы засахаренные испражнения. А может, особенно солнечным Пфистереру кажется то обстоятельство, что не сегодня завтра он сыграет в ящик, так и не выцарапав Крюгера из тюрьмы и ни разу не переспав с Иоганной Крайн? Больной ответил в не менее крепких выражениях, и добродушная г-жа Пфистерер, только что снова вошедшая в комнату, воспряла духом и преисполнилась надежды на полное выздоровление мужа. Но как только за доктором Маттеи закрылась дверь, Пфистерер опять ушел в себя, и лицо у него стало таким изможденным, что трудно было поверить, будто его жизнь катится по солнечной орбите.
А доктор Маттеи, выйдя от собрата по перу, почувствовал себя на редкость освеженным. Полезно лишний раз отхаркнуть мокроту, облегчить душу хорошей порцией брани. Но кто это идет там, по противоположному тротуару? Ну конечно, Инсарова - у кого еще такая тоненькая, юркая фигурка! Он торопливо перешел на другую сторону и, привлекая внимание прохожих, неуклюже бросился ей вдогонку. Как всегда, она приветствовала его залпом колких острот, от которых он совсем растерялся. Инсарова торопилась, ей надо было поспеть на репетицию, а до этого она еще хотела навестить министра Кленка - он, по слухам, не в шутку расхворался. Пока Маттеи решал вопрос, стоит ли ее проводить, она распростилась и ушла. У Маттеи в глазах позеленело от злости на стервеца Кленка. Какой позор - министр юстиции спутался с какой-то танцоркой, к тому же наверняка большевичкой, и открыто, среди бела дня, принимает у себя любовницу! Пора Кленка за ушко да на солнышко! Нет, этот человек сидит не на месте. Уж слишком он стал мягкотел. Он идет на поводу у имперского правительства, погоня за удовольствиями превратила его в настоящий студень.
Кленка пора убрать.
Надо будет поговорить об этом с Бихлером, с приятелями - членами "Мужского клуба". В следующем же номере его, Маттеи, журнала Кленк прочтет о себе такие стихи, что у него глаза на лоб полезут.
Тем временем Инсарова торопливо шла к Кленку. Перед уходом, следуя моде того времени, она напудрилась и нарумянилась, но не так вызывающе, как обычно. Танцовщица привыкла класть косметику куда гуще, но что поделаешь, Кленку это не нравится. Она шла, улыбаясь, пританцовывая, не замечая, что прохожие оглядываются на нее, как на сумасшедшую. А она просто ног под собой не чуяла от радости, была в восторге от себя. Ей удалось окончательно прибрать Кленка к рукам, и как ловко она это проделала!
Сперва она долго морочила ему голову. Потом все же пригласила зайти к ней вечером, а когда Кленк стал отнекиваться, настояла на его визите. Честно говоря, он ей не слишком нравился, но все же вечер прошел мило и весело. Когда Кленк в ударе, он мужчина хоть куда. Теперь-то ей понятно, почему он не хотел прийти тогда: ему нездоровилось, он простудился - в такую жару! - и чувствовал, что у него вот-вот начнется приступ невыносимых почечных болей. В тот вечер Кленк неумеренно пил, да и во всем прочем излишествовал, потому, наверное, и свалился. Да, да, Кленк заболел только из-за нее, из-за того, что она настояла на его приходе. Это льстило Инсаровой. Ей казалось - теперь Кленк прочно в ее сетях. Стоило танцовщице подумать о своей мудрой тактике, как ее заливала нежность к Кленку.
У министра ее провели в просторную приемную и предложили обождать. Комната была обставлена красивой массивной мебелью, дисгармонию вносили только оленьи рога, развешанные по стенам. Немного погодя вошла горничная и от имени г-жи Кленк сказала, что господин министр не может принять посетительницу. Даже предлога не потрудились придумать. Инсарова сразу съежилась, потускнела. Она продолжала сидеть, а горничная стояла и ждала, когда же та уберется. Еще на лестнице Инсарова начала всхлипывать, она, как школьница, хныкала и в такси; по дороге на репетицию, но это не помешало ей вынуть пудреницу, губную помаду и быстрыми, привычными движениями густо напудриться и ярко накрасить губы.
А Кленк пластом лежал в постели. Впрочем, в утренние часы он чувствовал себя не так уж плохо. Омерзительный туман в голове рассеивался, не было гнусной слабости, бессилия, отяжелевшие веки не смыкались сами собой. Когда доложили об Инсаровой, он и на долю секунды не обрадовался, что на этот раз она сама пришла к нему. Только еще сильнее обозлился на себя - зачем тогда уступил ее идиотскому капризу. Он же чувствовал, что расклеивается. Но когда услышал по телефону это кошачье мяуканье, этот тоненький, жалкий, смиренный голосок, вдруг одурел. Захотел, видите ли, доказать, что он настоящий мужчина. Вел себя не умнее, чем какой-нибудь гимназистишка. Вот и получил за глупость, что причитается, сам уложил себя на обе лопатки и теперь должен созерцать, сложа руки, как вся эта шваль, пользуясь его болезнью и вынужденной бездеятельностью, старается его спихнуть. И виновата во всем русская сука. А ведь с другими она не ломалась - взять хотя бы Тони Ридлера. Поэтому, когда ему доложили о приходе русской, он раскричался, стал грубо ругаться: черт знает что, какая-то мразь лезет к нему в дом, выгнать ее взашей. Этим предательством он облегчил себе душу. Г-жа Кленк, тощая, ссохшаяся коза, бесцельно бродившая по комнате, обошла молчанием и приход русской, и вспышку мужа. Кленк не считал нужным таиться, не такой он был человек; сплетни, разумеется, дошли и до его жены, большевичка причинила ей немало страданий. Но сейчас она ничем себя не выдала, только чуть дрогнула бескровная рука, протягивавшая ему лимонад. Но как г-жа Кленк торжествовала в эту минуту!
Выгнав русскую, Кленк лежал ослабевший, довольный, и в мозгу у него проносились обрывки бессвязных мыслей. Он вспомнил свой кабинет в министерстве, переговоры, которые собирался провести с вюртембергским коллегой, тайного советника Бихлера, сыночка Симона, славного своего паренька, быстро делавшего карьеру. Давненько он не видел Симона. Вот бы заполучить его сюда. Конечно, тот не смог бы так бесшумно и неустанно ухаживать за ним, как ухаживает жена. Но насколько же было бы приятнее, если бы возле кровати топали сейчас сильные ноги сына, а не семенила бы на цыпочках, затаив дыхание, эта бледная немочь. Кленк бросил недобрый взгляд в сторону жены.
Пришел врач - немногословный, суровый доктор Бернайс. Маленький человечек в затрапезном костюме молча осмотрел больного, подтвердил прежние предписания - строгая диета, постельный режим, покой. На сердитый вопрос Кленка, понимает ли доктор Бернайс, как неисполнимы его советы, тот сухо ответил, что его это не касается. Министр спросил, когда же наконец он выздоровеет, но врач только пожал плечами. Когда он ушел, Кленк тоскливо подумал, что назначил на это утро прием еще двоим: элегантному, увертливому Гартлю и строптивому наглецу Тони Ридлеру. Тоскливо не потому, что боялся разволноваться, - нет, просто он чувствовал, что ослабел от болезни и ему не справиться с такими коварными противниками. Но не принять их, показать, как тяжко он болен, Кленк не хотел.
И вот Гартль уже сидит у его постели и с наигранным оптимизмом болтает о Кленковой болезни. Потом переходит к делам, и тут Кленк обнаруживает, что все же не представлял себе глубину бесстыдства этой гадины. Гартль отстаивает как раз противоположное тому, что считает разумным Кленк. В каждом его предложении сквозит стремление к политической самостоятельности, столь неприкрытой, что она свела бы на нет все тонкие ухищрения Кленковой политики. Кленк пропускает мимо ушей половину осторожных, полувопросительных замечаний референта. Он напряженно думает: чего, собственно, добивается этот тип? Почему, скажем, он так противится помилованию Крюгера? Это же простейший способ избежать пересмотра дела. Помилованный Крюгер навсегда снимается с повестки дня. А Гартль все говорит и говорит. Больной продолжает сосредоточенно размышлять. Ага, так вот в чем дело, теперь ясно, куда клонит хитрая лиса: хочет, чтобы кабинет, воспользовавшись болезнью министра, снова изменил курс, вернулся к прежней шапкозакидательской политике, чтобы здоровый Флаухер вытурил больного Кленка. Он готовит почву, этот самый Гартль, надеясь стать его преемником, демонстрирует свое умение стукнуть кулаком по столу, постоять за права баварцев, как надлежит настоящему министру юстиции. Кленк приходит в неистовство: "Черта с два, голубчик, на нас еще рано ставить крест! Но сейчас мы и бровью не поведем, сейчас мы будем благоразумны". Он мирно выслушивает дурацкую болтовню Гартля, возражает обдуманно, по существу. Ни единым жестом не выдает, что раскусил его. С виду это учтивая, можно даже сказать, задушевная беседа министра с референтом.
После ухода Гартля Кленк лежит совершенно обессиленный. Будь она проклята, эта русская! Эх, отдохнуть бы сейчас. Закрыть глаза, ни о чем не думать - ну, разве что о том, что стоишь где-нибудь на горе в лесу и подстерегаешь дичь. Но он и этого не может себе позволить. С минуты на минуту должен прийти барон Тони Ридлер. До чего они обнаглели, эти молодчики из партии "патриотов", пора прижать их к ногтю. Не успел он заболеть, как они буквально гадят ему на голову. Из-за сволочной болезни почек летит вверх тормашками вся баварская политика. Флаухер и этот его протеже, болван Руперт Кутцнер, развивают бурную деятельность, пробиваются к власти.
Где только что сидел Гартль, теперь сидит, развалившись, грубовато элегантный барон Тони Ридлер. Он прячет в усах улыбку, и глаза его с желтоватыми белками иронически и самоуверенно сверлят больного. Кленк чувствует, что в голове у него муть, что лучшая часть дня уже позади. Только бы не взорваться, не наговорить лишнего.
Тони Ридлер рассказывал, как он с приятелями охотился в прошлую субботу; жаль, с ними не было Кленка. Кленк глотнул лимонаду и сказал, что понимает, как на руку этим господам его болезнь. Но пусть не слишком дают себе волю, не лезут на рожон: судя по всему, он уже на будущей неделе вернется в свой рабочий кабинет. А понадобится, так, и не вставая с постели, можно отдать соответствующий приказ. Ему хотелось сказать что-нибудь позабористей, но ничего не приходило в голову. Ох, Инсарова, проклятая тварь! Где же тут справедливость - он по ее милости валяется с почечным приступом, а этот молодчик Ридлер, с которым она, не ломаясь, сразу легла в постель, сидит у его кровати и измывается над ним.
Тони Ридлер ответил, что ему неясно, куда клонит Кленк. Даже малому ребенку очевидно, что корабль "истинных германцев" дождался попутного ветра. За Кутцнером идет весь Мюнхен, вся страна. Иначе и быть не может. Он не понимает тактики Кленка, тактики выжидания. "Меньше всего в этом непонимании виновата тактика", - отрезал Кленк. Он еще раз предупреждает Ридлера - его спортивные общества будут считаться таковыми, только если прекратят агрессивные, провокационные выступления.
- Что это значит - прекратят агрессивные, провокационные выступления? - с ленивой, насмешливой учтивостью спросил барон Ридлер.
- А то, к примеру, если будет отменен парад в Кольберхофе, - так же учтиво ответил Кленк. - Что же касается майора фон Гюнтера, он вообще должен исчезнуть.
- Не понимаю, о ком вы говорите, - сказал Тони Ридлер и с ненавистью поглядел на Кленка.
- И чтобы через трое суток он уже был за границей, - приказал Кленк. - Передайте ему, что я ознакомился с его делом. Передайте, что он мерзавец. Передайте, что, если бы речь шла не о таком благом начинании, я и за границу его не выпустил бы. Скажите ему это от моего имени и пожелайте счастливого пути.
- А если через трое суток он по-прежнему будет здесь? - со злобной издевкой спросил Тони Ридлер. - Откроете военные действия?
- Да, открою военные действия, - приподнимаясь, ответил Кленк.
- Вы, я вижу, серьезно больны, - проговорил Тони Ридлер.
Потом, уже в одиночестве, министр чуть не задохся от злости на Инсарову. Он не сомневался, что Ридлер спровадит майора за границу. Но все равно нужно было говорить совсем не так, куда сильнее щелкнуть молодчика по носу. А виновата во всем эта тварь. Ее вкрадчивые ухватки, раскосые глаза. Немного погодя, такой ослабевший, что ему казалось - его закутали не то в вату, не то в перегретые облака, - он с нежностью стал думать о своей жене, об этой тощей, ссохшейся козе, о своем поместье, и с особенной нежностью - о пареньке Симоне, своем сыночке. Всего бы лучше было уехать сейчас в Берхтольдсцель, ходить на охоту, почитывать книжки, а юстиция вместе с Инсаровой пусть себе остаются в Мюнхене, пусть себе гниют и воняют в собственном дерьме.
Тем временем Тони Ридлер ехал обедать в ресторан Пфаундлера. Он думал: "Кленка пора убрать". Он твердил это затем и в Мюнхене, и в Кольберхофе. Твердил Кутцнеру и членам "Мужского клуба". Написал в Париж тайному советнику Бихлеру.
Гартль тоже твердил: "Кленка пора убрать". Твердил это и Флаухер, твердили и многие другие.
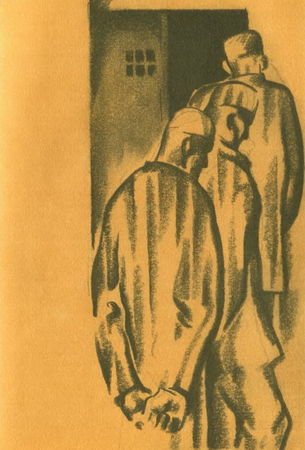
14
Иоганна Крайн наряжается по случаю некоего торжества
В канун своего двадцатишестилетия Иоганна Крайн никак не могла уснуть. Не затворяя окна, она опустила жалюзи - может, это лунный свет ей мешает. Но лунный свет был ни при чем, сон по-прежнему не приходил. Иоганна думала о своих знакомых, о том, чем они, по всей вероятности, занимались, пока она играла в теннис в Париже и ездила к морю. Думала о суховатом, занятном, едком Тюверлене - его обозрение уже начали репетировать. Вот бы приехать ему в Париж и рассказать ей, как идут репетиции. Порою Тюверлен невыносимо раздражал ее, но во многом он все-таки был прав. Думала с неприязнью о своей глупой матери. Думала о заключенном Крюгере - о нем она почти ничего не знала, его невыразительные письма были скорее умолчанием, чем рассказом. Думала об издерганном адвокате, докторе Гейере, о его умных, наблюдательных глазах. Тут мысли ее незаметно пошли по другому руслу, но она сразу же взяла себя в руки. Прогнала образ шалопая, стала думать о Каспаре Прекле, благо вспомнилось его имя. Долго размышляла о нем. Однажды он рассказал ей, почему сделался марксистом. Отнюдь не из сострадания к угнетенным, не из дурацкой сентиментальности, о нет. Дело было совсем в другом. До того, как стать марксистом, он никак не мог найти себя, работал то там, то тут и все не чувствовал почвы под ногами, на которой можно было бы утвердиться. И не было у него четкого мировоззрения. Вся история человеческого общества, все его устройство начисто лишены смысла, если подходить к ним с мерками старых философских теорий. Но стоило Преклю применить принципы научного марксизма - и во мгновение ока все стало на свои места, причины и следствия прояснились, механизм пришел в движение. Ощущение было такое, будто до той поры он кнутом и вожжами понукал упрямо стоящий на месте автомобиль, а потом вдруг уразумел устройство автомобильного двигателя. Иоганна размышляла о фанатичной одержимости речей Прекля, о его угловатых, неловких повадках и невольно улыбалась. Она зажгла свет, взяла книгу - ведь все равно сна не было ни в одном глазу. В эти тревожные для нее недели Иоганна часто искала прибежища в чтении. Но современные романы не задевали ее. Их авторы, исходившие из представлений и предрассудков буржуазного общества, тратили ворохи бумаги на то, чтобы привести своих героев к успеху, или, напротив, к краху, или просто в постель к женщине. С недавнего времени она стала выписывать книги, трактующие вопросы социализма; узнав об этом, г-н Гесрейтер добродушно усмехнулся. Иоганна не раз слышала, что, усвоив учение о прибавочной стоимости и о накоплении капитала, а также основы материалистического понимания истории, она немедленно уяснит себе и законы, управляющие человеческими судьбами. Судьбы рурских рабочих, и далай-лам, и бретонских рыбаков, и последнего германского кайзера, и кантонских кули подчинены все той же столь очевидной экономической необходимости. "Стоит вам уразуметь эти законы, - повторял ей Каспар Прекль, - и вы сразу поймете смысл и цель ваших поступков и либо примиритесь, либо, напротив, вступите в борьбу со своей судьбой".