- А-а! - вскричали оба Пашковы и покачали головами недоверчиво.
- Вот, - продолжал невозмутимо Хабаров, пригубливая из чаши. - И под Великой стеной богдойские люди тех китайских людей побили, и за стену пошли, и у них Ханбалу - ханскую столицу - приступом взяли. И, приступив, дальше пошли те богдоханы в Китай, богатства взяли неисчислимые, и бьются они теперь на конях своих у самых дальних полуденных морей.
- В Китайском царстве?
- В Китайском, ага! И то Китайское царство богаче Богдойской земли, и там многие каменные города и дворы, как на Русии. И церквей там много, и звонят в них колокола, только крестов на церквах нету.
- А вера какая?
- Какая вера-то - неведомо, а живут они, слышно, как русские. И одежи у них длинные. И многие страны торгуют с ними богато.
- Ишь ты! Откуда ж, государь, сие ведомо? - тихо спросил Еремей.
- А хаживал туды, за ту Великую стену, воевода из Томску, Волынский Василий Васильич. Он мне и сказывал. Да еще что! Есть у меня книга голландская, и тот голландский человек еще дале бывал… И сказывают толмачи, что книгу ту чли, за Китайским царством, в окияне, на шестьсот верст лежит остров Ципанга. Бога-атый! И золота, и серебра там много, и всякого добра.
У Пашкова инда глаза заблестели.
- Взять бы да подвести тех людей под государеву высокую руку!
Хабаров отмахнулся:
- Не дадутся! Ципанские люди сердиты, чужих людей, что к ним идут, сразу казнят. А от Китайского царства на полдень прямо лежит Индейское царство. И от Ханбала китайского до Агры, столицы индейской, караваны ходят по полугоду, ходят часто, и товаров у них много же.
- Далеко… не возьмешь! - вздохнул Пашков. - Досада.
- Нет, не возьмешь! - говорил Хабаров. - Казацкие да служивые люди биться любят да грабить, ну, народ обижают. На Амуре теперь ровно котел со щербой кипит. А жить нужно, говорю, мирно, землю пахать, промыслы вести да торговать - богдойские люди мирные.
- А у меня указ - на Амур!
- На Амуре ты малых острожков не поставишь. Нет! - отвечал Хабаров, следя взглядом, как через реку плыл безвестный рыбачий челнок. - На Амуре нужна, говорю, большая сила - богдойские люди сильно приступать могут, с боем. А силы у тебя, Афанасий Филиппыч, нету… Значит, идти тебе надо за Байкал, тут горы да леса к Амуру подходят…
- Оно так и есть, Ерофей Павлыч. Я там острожки ставил, а Братский и Иркутский ране стоят…
- Вот-вот! Ну, подавайся туда полегоньку. Осторожно! На зиму останавливайся, озимую ржицу сей, а к концу лета собирай. Иди по Ангаре против воды, да за Байкал, да там реками пройдешь. Сам увидишь, докуда мочно!
Протопоп Аввакум сидел на камне на берегу Ангары, смотря издали на Илимский острожек, на его башни, жестяный крест на церкви. Ждал он возвращенья воеводы. И все сидельцы дощаников, вышедшие на берег в этот теплый день конца лета, собиравшие ягоды, сушившие на кустах отсыревшую одежду, тоже ждали сие решенье - куда же пойдут они за своей судьбой?.. Все они накрепко были связаны с седым грозным человеком.
Тревожен был и воевода, возвращаясь к своему каравану, - приперло его, приходилось самому решать, как держать путь.
"Хабарову все дела эти были ведомы, - думал воевода. - Ходил он по Амур-реке далеко - и на Зее был, и на Бурее, и на Шунгал-реке, и до Уссури-реки доходил. Лучше его никто не мог бы посоветовать. И тут потише будет, легче с ним справляться, за Байкалом, тут-то все горы, не сбежишь, некуда! Вся стать идти эдак!"
Воеводский дощаник подплывал, на берегу пашковская рать томится. Ждет приговор.
- Плывем Ангарой, товарищи! - крикнул на подходе Афанасий Филиппыч и махнул рукой против светлых несущихся вод Энесси.
Короткий жест определял судьбу самого воеводы, судьбу его людей, само будущее здесь московской власти.
Протопоп же Аввакум обрекался этим жестом на молчанье на целые годы под властью этого человека, причем ему оставались лишь одни раскаленные думы, да неистовые молитвы, да разве шепоты по ночам под тулупом с лежавшими рядом товарищами.
Поплыли они по Ангаре.
Осень в полной холодеющей силе своей вовсю расцветила берега быстрой хрустальной реки. Стали по берегам утесы, посмотреть - голову заломишь. В лесах звери дикие, змеи великие, на берегу и гуси, и утки кличут, и от лебедей бело без конца… Над горами кружат и орлы, и соколы, и кречеты.
Молчал протопоп, смотрел кругом.
Пошли дощаники пашковские ангарскими порогами - везде каменья, вода ревет. Народ весь берегом идет, волочет свои посуды против воды. Перед Шаманским порогом выгружались так, а сверху встречу приплыли другие суда. Плыли на них две вдовы-старухи, в Енисейский острог плывут - в монастырь, постригаться.
И увидел тех вдов воевода Пашков, рычит:
- Бабы, а плывут в обрат! Ино не знаете, приказал государь баб в жены казакам давать! Тащи их ко мне.
Взвыли вдовы, в ноги воеводе пали:
- Государь, старухи мы! На седьмой десяток! Куды нам замуж! Душу спасать хотим…
Воевода смеется:
- А еще и с мужьями поживете!
И кругом-то смех пошел:
- Добро, государь! На чужой сторонке и старушка божий дар!
Вдовы плачут, ревут… и-и, да куда! Вытащили их из дощаника, шушуны ихние повыкидали, хохочут кругом: вот те и приданое! Жребьи уже в шапке трясут - ну, женихи, подходи, кому счастье!
Протопоп прослышал, бежит сквозь толпу, руку поднял, воеводу обличает:
- Неправо творишь, государь! Вдовы они, Христовы невесты. В монастырь, бедные, плывут, души спасать… За тебя молиться будут…
Сдвинул брови воевода. Говорит тихо:
- Не мешайся ты, протопоп, в дело государево. Не твоего оно ума! Вдовы нам надобны. Делу надобны. И чего ты на всех путях нашему делу наперекор стоишь, а? Ано из-за тебя дощаники-то по порогам худо идут! Еретик ты сам! Вылезай сам из посуды, ступай по берегу мимо порогу, авось без тебя полегчает!
И побрел протопоп по берегу тому пешком, порог-то гудит как бешеный, шумит, словно тысяча шаманов пляшут, в бубны бьют, а по берегу горы, и на тех горах олени гуляют, и изюбры, и лоси, и кабаны, и бараны дикие. И всего много, а взять нечем… Бредет протопоп один, молчит днем, зато ночами под тулупом стал шептать больше… Филиппушка его слушал, стрелец из Томского, да еще Никифор из Березова, да и другие еще слушали его горячую, гневную душу.
И прорвало молчание протопопово. На одном осеннем ночлеге написал протопоп воеводе "писаньице", призывал он воеводу в том писаньице бояться бога, его же все человеки трепещут, и не боится один он, воевода, гнет медведем, несет своим подданным людям великие беды да горе…
Многонько было там писано, и, должно быть, писано красноречиво, сильно писано, как умел писать протопоп. На первом же привале прибежали за протопопом казаки, помчали его в его дощанике за три версты к воеводе.
- Ты поп или распоп? - рыкнул львом воевода, дрожит, саблю тащит.
- Аз есмь Аввакум-протопоп!
Воевода ударил по лицу протопопа раз, другой, сбил с ног, хватил его чеканом по спине, приказал сорвать однорядку, бить кнутом.
- Вот тебе и протопоп!
- Господи Иисусе Христе! - вопил протопоп вперемежку со стонами. - Господи, выручай! Господи, помогай!
И вдруг вскричал властно:
- Полно тебе мучить меня! Воевода, за что ты меня бьешь?
- Полно! - опомнился воевода, отер лоб. - Убрать попа!
- Не попа! Протопоп я! На мне сан святой!
Протопопа стрельцы стащили в казенный дощаник, бросили на дно, а дождь, а снег… Мерз да мок протопоп всю ночь напролет, утро пришло - пошли вперед, да кинули люди втайне кафтан протопопу, чтобы прикрыться.
Перед Братским острожком бесится, кипит самый большой порог - Падун. Падает там вода через три каменных залавка, бьет сильно, суда ломает. Выбили снова протопопа на берег, и брел он по каменьям да по скалам, скованный цепью, спина засохла кровью, да гноем, да струпьями…
Как пришли в Братский острог, пала зима, стал Пашков там зимовать. Ой, горе, горе! Кругом иноземцы немирны, нападают, в отряде людей и половины нету - остались позади жать и убирать засеянный у Хабарова хлеб, подошли они уж зимой. Зима холодная, острог малый, корма скудные. Протопопа бросили в башню острожную, лежал, как собачка, на соломке, все на брюхе. - спина-то болела - да мышей скуфьей бил, много их было. Когда покормят, когда нет - и так до Филиппова дня. А с того дня перевели в избу теплую казенную, с аманатами - заложниками - да с воеводскими псами… Настасья Марковна с детьми в двадцати верстах жила в зимовье, от нее сынок Ваня о Рождестве пришел было на праздник повидать батьку, так не пустили парня стрельцы, заперли Ваню на ночь в башню, а утром прогнали вспять. Так сынок отца и не видал…
Мучился протопоп в холодной башне, мучился он и в казенной избе с остяцкими аманатами да с псами. Но не было покою от протопопа и воеводе Пашкову. Мучил протопоп воеводу. Завел друзей в отряде протопоп, ночные его шепоты под тулупами стали расползаться между людьми. Покончить бы с протопопом попросту, убить бы его до смерти! Да не мог этого воевода - не смел: протопопа-то знал царь, и в грамотках с Москвы слал ему приветы сам царь, просил его молитв.
В Братском-то самом остроге еще можно было обойтись без протопопа: было тут кому служить - в церкви был древний поп Иона, хоть и прилежавший сильно питию хмельному. А весной-то ведь надо было идти дальше, а как идти без попа? Мало ли что случится! Да к тому же, лежа с мужем на перинах постели на лавке, в мохнатое ухо воеводе нашептывала жена его Фекла Матвеевна: грех великий-де делает он, воевода, обижая праведника. Что ж с ним делать? С собой тащить? Да ежели тот протопоп людей взбунтует? Вот почему в зимний вечер, когда в окошко избушки глядел серебряный месяц, горела пара сальных свечей в шандале в Приказной избе - подьячий Шпилькин, прикусив на сторону язык, писал фигуристо и четко воеводскую отписку в Москву, на имя государя-наследника и великого князя Алексея Алексеевича:
"На Долгом пороге распоп Аввакумко впал в разбойное намеренье, а кем подбит - неведомо. И писал он, распоп, грамотку воровскую своей рукой против властей, безо всякой правды, чтобы в твоем, государь, походе на Амур поднять мятеж. И того хотел, государь, тот распоп бунтовской Аввакумко, чтобы, собрав скоп, меня, воеводу твоего, не слушать, покинуть меня и убежать ему, как Васька Колесников, что меня оставил, как Мишка Сорокин и с тем два ста боле человек, что твой, государь, город на Верхней Лене разбили и грабили и многих торговых людей убили до смерти. И, то письмо распопа Аввакумки прочтя, я указал его бить кнутом на кобыле, чтоб, видя то, другим разбойникам было неповадно. И как его били - учал той Аввакумко кричать: "Братья казаки, помогайте мне! Не покиньте меня!" И многие другие слова говорил он и попреки. По твоим, государь, указам тот распоп Аввакумко смерти достоин за те воровские слова, да, государь, безо твоего указа казнить его не смею. И других людей моих подбивал он на мятеж - Фильку Помельцева из Томску, Никишку Санникова да Ивашку Тельного из Березова и многих других воров. И тех воров и изменников я из отряда выгнал, бил кнутом, отослал в Томск без замотчанья и в их место прибрал иных охочих людей. И как мне быть с распопом тем Аввакумкой, прошу твоего милостивого указу".
Неизвестно, каков был на эту грамотку ответ, но ответ был: протопопа Пашков не сказнил, а освободил из заточенья и, отправляясь по весне дальше на всход солнца, снова поволок его с собой.
Трудный был поход. Добрались по Ангаре и переплыли чудом на утлых посудинах бурное Байкал-море. Шли Селенгой-рекой, потом мелким Хилком, где дощаники бросили, а поделали небольшие лодки и сутками их волокли против воды на бичеве. На Хилке чуть не утонул протопоп, когда оторвало и унесло валом его суденышко, - спасибо, люди перехватили… Все вещи перемокли, и шубы и платья тафтяные, люди охают, ахают, а протопоп развешивает свое добришко на кусты сушить, а сам смеется.
Воевода бить его за то хотел - ино-де то все делает на смех.
"А я, - записывает Аввакум, - богородице молюсь - владычица, уйми дурня тово".
Двенадцать недель эдак шли, прошли горами, а как добрались до озера Иргень, пришла зима. Рубили лес на волоке, поставили один острожек малый у озера вместо развалившегося, наплотили плотов и поплыли по Ингоде-реке, лес гнали с собой хоромный, на крепость. Река мелкая, плоты тяжелы, приставы немилостивы, палки большие, батоги суковатые, кнуты вострые, пытки жестокие, огонь да встряски, а люди голодные. Станут мучить человека, а он и помрет!
Добрались наконец до Нерчи-реки, вспахали, засеяли пашни, а есть самим нечего. Жили на древесной толченой коре, ели траву, копали коренья, ели все, что можно есть и чего нельзя. Наконец поставлен был острог при впадении реки Нерчи в Хилок.
По Нерче-реке зимовали, пошли было на Шилку-реку, ставить стали опять острожки. Добрались до Даурской земли, а там все повоевано, пограблено, люди разбежались, а богдойские люди войной грозят. И есть самим нечего, - пришлось протопопу свою однорядку московскую воеводе продать, тот четыре мешка ржи за нее пожаловал… Так было тяжко, что отступился у воеводы ум. Есть нечего, кругом зверья много, а промышлять охотой воевода людей не пускает: боится - сбегут! Ой, горе! Ели траву, коренья, зимой сосну толкли. Кобыла жеребенка родит - люди жеребенка с голодухи съедят, а Пашков сведает про то да кнутом людей забивает. Строгота!
Дурак он и есть дурак!
И дальше Нерчинского острога не пошел Пашков. Куда идти? На Амуре все пуще да пуще дрались казаки с богдойскими людьми.
И слышно было, писал Пашков в Москву, чтобы сменили его. Не выдержал даже этот железный человек, плакался в челобитье - годы-де старые, болезни одолели… Царь-государь, ослобони, смилуйся, пожалуй!..
Не скоро пришел с Москвы указ о смене Пашкова - только 12 мая 1662 года. Вот тебе и вышел на Амур воевода Пашков!
Молчал протопоп, брел по тернистым дорогам своей многострадальной жизни, куда его волокли воеводские люди, молчал и думал, и от того вынужденного молчанья разгорелось его сердце страстью обличенья. Изгнан он, протопоп, из светлого рая московского, отлучен от милых друзей, от богобоязненных нежных жен, от светлых с ними бесед, от которых тонеет и утренюет дух, становится тогда видимо светлое, скрытое в грядущем. И, закрывши глаза, ворочаясь на жестком Нерчинском ложе своем под плач ребят, стоны Марковны, под вой метели и голодных волков, вспоминал, содрогаясь, протопоп одно изображенье, что видел он давно на стене в притворе, еще в Макарьевско-Желтоводском монастыре. На стене той бог, грозный, бородатый, весь в огне, в сиянье, в облаке, меж цветков да деревьев, изгонял Адама и Еву из рая, и уходили они, бедные да голые, вниз, во кромешную тьму, в лес, ровно в Сибирь сам протопоп со своей Марковной… И Ангел-охранитель стоял твердо на пороге покинутого рая, светлый, грозный, обе могучие руки вытянув, положив на рукоять пламенного меча и крылья свои по-орлиному приподняв за крутыми плечами… А из рая, из чудесного того сада, льется широкими лучами свет несказанный и исчезает, гаснет в земных лесах Забайкалья.
Инда страх шевелил волосы протопопа, овевал спину его мелкой дрожью. Впрямь, видать, так велики грехи его, протопопа, что так наказует его бог! А если так велики грехи, так на какую же муку не готов он, протопоп, только чтобы их искупить?
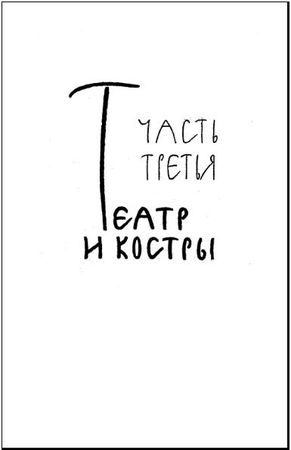
Часть третья. Театр и костры

Глава первая. Царь устал
Царь Алексей устал.
Ссутулил крутые плечи, выставил вперед холеную бороду, сидит, уперев подбородок на посох индейского дерева с оголовьем рыбьего зуба. Прохладен, приятен посох.
Прохладно, приятно в такую жару и каменное кресло царя. Прадед, царь Иван Васильич, сиживал на этом гульбище, что прилепилось к Высокой Вознесенской церкви в царском селе Коломенском. Балконец над кручей, внизу Москва-река, вся в белых да желтых купавках, по берегу обступила ее березовая роща, вся в солнце, в лиственном звонком шелесте.
За. Москва-рекой зелен бархат Великого луга под легким небом в белых, в сизых облаках. По лугу лентой Москва-река вьется, озера на ней низаны, плывут тени от облаков, ветер ходит, трясет бобровые палки в воде, цветки на лугу.
Балконец в тени, солнце идет за церковью, хлещет светом на луг, вдалеке деревни, всходят дымы, бродят пестрые стада. А влево далеко развалилась на семи своих холмах деревянная, приземистая Москва в зеленых садах, высоко видны купола, да кресты, да орлы кремлевских башен, горят как жар медные крыши царева Верха. Ин райская обитель!
Нет. Не райская. Много изведал, испытал царь Алексей с той поры, как в такой же летний день густо трижды ударил колокол Ивана Великого на исход души отца его, царя Михаила. Стыдный восторг жег тайно душу Алексея, мечты клубились облаками в сердце молоденького вьюноши, а дядька и пестун его, седой боярин Морозов, упав на колени, плача, целовал руки у него, у выкормыша своего.
- Царь ты-де теперь, Алеша! Царь рожоный! Не многомятежным народом, а самим богом ставленный!
Много воды с тех пор утекло. Над Москвой серым облаком пыль да дым… Народу там живет, верно, много, ну и дымит! Пылит народ! Своим невежливым обычаем жить хочет. Бунтует!
Устал царь Алексей от Москвы, от зычных палачовых криков, от матерной ругани с Ивановской площади, под окнами царева Верха, от колокольного звона, от шепотов царицыных баб да родни, от царского тесного чина, от боярских бород шильями да метлами, от пухлых, белых и жадных их рук с цветными перстнями, от умильных и неверных голосов их, а пуще всего от их боярских слов - хитрых, сперва неприметных, приятных, вползающих в сердце, а потом нарывающих на душе, словно вот как в пальце нарывает заноза от неприметного шиповника. Второй день отсиживается царь в Коломенском, никого не видит, в душе горечь и досада саднеют. Дел в Москве - и-и-и, да устал он. Человек же он!
Не покидает царя досада. На заре сегодня указал Алексей Михайлыч своим сокольникам ехать с ним, с царем, за реку, на Луг - тешиться соколиной охотой на гусей да на уток озерных… Выехала охота с царем, сокольники полвтораста - в белых кафтанах, на грудях орел золотой, шапка с косым выемом, губы алы, зубы жемчугом блестят в курчавых усах да бородках, все как один на серых аргамаках, на коротких стременах сидят по-татарски. У каждого на левой руке по соколу в бурых да в белых пятнах, головки у птиц под колпачками, на левой лапе кольцо золотое да цепка… Красота в ясный июньский день да на зеленом лугу!