– Вот ты сказал "сам собой", – задумчиво и немного печально произнес Дима. – Ты невольно подчеркнул то, что постоянно подчеркивают все энтрописты – слово "самопроизвольно". И тем самым, точь-в-точь как мои оппоненты, исключил активную, организующую роль человека в процессе, оторвал его от природы, частью которой он является. Это наша всеобщая беда и несчастье – отделять самих себя от природы. Если подумать, очень хорошо подумать, подобное обособление в конечном счете приводит к признанию того, будто человек не является продуктом космического развития, эволюции мира, а помещен, втиснут в него нематериальной силой. Попросту – богом. Везде и всюду мы повторяем: "Человек и природа", "Наедине с природой", "Рассказы о природе"… тем самым внедряя в сознание масс надуманную мысль, якобы природа существует сама по себе, а человек – сам по себе. Отдельно друг от друга. Чушь! Человек – объективная часть природы. И не только потому, что создан природой, вскормлен ею, но и потому, что его разум способен, открывая законы природы, создавать нечто такое, чего никто никогда не видел, чего в самой природе не существовало. Не будем углубляться в дебри. Возьми чудо века – голубой экран. Само по себе телевидение никогда не существовало. И вероятность его самопроизвольного появления абсолютно невозможна, равна нулю. Но чудо реально существует. Его создал человек, разумно организовав взаимодействие все тех же сил природы. Понимаешь? А мы его постоянно сбрасываем со счетов. Вот любопытная деталь. Скажи, может ли на Луне быть вулканическая деятельность?
– Не может. Луна – мертвое, остывшее, безжизненное тело.
– Правильно. Мертвое, остывшее, безжизненное, закончившее эволюцию и, следовательно… Так думали поголовно все ученые. И у нас, и за рубежом. Все, кроме одного. Этот один сомневался. И математически доказал: вулканическая деятельность на безжизненной Луне… возможна! Боже, как его высмеивали за "безответственное" заявление. Даже благожелательно настроенные коллеги перестали здороваться. А он, судя по рассказам ребят, которые занимались луноходом, человек очень ранимый и страшно переживал изоляцию. Но ночь за ночью, стиснув зубы, смотрел в телескоп. И высмотрел, Сань, высмотрел – в кратере Альфонс вспыхнуло вулканическое пламя! И пошла лава. Безжизненная Луна ожила! Спектрограмма и фотографии этот неслыханный факт подтверждали! Ученый был счастлив. Но только через одиннадцать лет, через долгих одиннадцать лет, Саня, Комитет по делам изобретений и открытий выдал ему диплом об открытии лунного вулканизма. Лишь через одиннадцать лет те, кто считал, что такого быть не может, смирились. А спустя год Международная академия астронавтики вручила советскому ученому золотую медаль с бриллиантовым изображением созвездия Большой Медведицы…
– Постой, Дмитрий, – неясная догадка вспыхнула в мозгу, и Саня резко повернулся к товарищу. – Где работает этот ученый?
– Пулковская обсерватория. Доктор физико-математических наук, профессор Николай Александрович Гозырев, – недоуменно сказал Дима.
– Надо же! – засмеялся Саня. – Моя Наташка целый год работала с ним в отделе физики Солнца…
– Действительно, мир тесен, – сказал Дима. – Нам, Саня, быть может, потребуется не меньшее мужество, чем доктору Гозыреву.
– Понимаю, – бесшабашный Сергеев снова становился космонавтом Сергеевым. – И почти во всем с тобой согласен. Одно замечание. Маленькое, но существенное. Если бы цивилизация пошла по другому пути развития, мы бы не сидели сейчас с тобой в этом корабле. Я благодарю судьбу, что все случилось именно так, а не иначе. Мы найдем выход из тупика. Преодолеем самих себя. Точно, Леша? – спросил он, поворачивая голову в темноту.
Ответом было молчание. Алексей спал. Он заснул сразу, как только прикоснулся к подголовнику кресла. И ничего не слышал, ничего не хотел.
Глава восьмая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Это было настоящее чудо – все осталось позади.
И раскаленное добела пекло, и недвижные барханы, похожие на гребни морских волн, и удивительная ночь, и солончаковый иней на рассвете, и пятикилометровый марш-бросок под палящим солнцем, который экипаж совершил, подчиняясь приказу – первому приказу, погасившему шипение кипящего масла в динамике радиостанции, – и нестерпимо долгие минуты ожидания спасателей… Все было позади, в прошлом. Целую вечность, целых двадцать минут они сидели в мягких креслах вертолета, блаженно направив на разгоряченные лица трубки вентиляторов забортного воздуха, и медленно, большими глотками пили зеленый чай – напиток богов и мучеников пустыни.
Иногда кто-либо из троих, встретившись взглядом с глазами спасателей или врача, беспричинно улыбался. Мир казался прекрасным, замечательным, необыкновенным, а люди, по долгу службы сидевшие вместе с ними в вертолете, – самыми добрыми, самыми надежными, самыми лучшими из всех, с кем когда-то сводила жизнь. Они не торопили, ни о чем не спрашивали. Они понимали каждого молча. И можно было наслаждаться чаем, и с удивлением смотреть в иллюминатор, где, как в немом кино, ослепительными, огненными бликами полыхала, проплывая и покачиваясь, пустыня. Можно было даже закрыть глаза и ни о чем не думать, а можно и наоборот – полностью погрузиться в сладостные мечты и грезы, оживляя в памяти лица любимых и нашептывая про себя самые первые, самые емкие слова, которые скажешь, открыв дверь. О, сколько чудесных, фантастических возможностей открывал перед измученными путниками старенький, потрепанный в постоянных поисках скитальцев вертолет. Он был их прибежищем, пристанищем, надеждой, будущим: с каждым поворотом лопастей винта он приближал их к родному дому, сокращая бесконечную оторванность от мира.
И Саня, испытывая благоговение перед летчиками, которые вели машину сквозь пустыню, с удовольствием откинулся в кресле и закрыл глаза. Саня определенно знал, что уже не сможет остаться прежним, бесшабашным, никогда не полетит на полигон, не обрежет макушки у хваленых пирамид, не пройдет по ограждению балкона на спор с завязанными глазами… Он стал другим. Ом фе, как говорят французы. Молодость кончилась, наступила зрелость. Саня почувствовал легкую, щемящую грусть. Тяжело вздохнув, он открыл глаза и, повернувшись к Диме, который сидел в соседнем кресле, негромко попросил:
– Выдай что-нибудь, Димыч… Что-нибудь такое… Понимаешь?
– А, – протянул, улыбаясь, Дима. – Переход количества в качество невозможен без психологической поддержки. Запишите в свой талмуд, доктор, – закричал он, показывая на Саню, – этому типу требуется психологическая поддержка. Жаждет чего-нибудь такого… Думаю, Вячеслав Кузнецов тут подойдет. Если не возражаете, конечно.
– Не возражаю, – сказал доктор, глядя в иллюминатор. – Выдавай. Только когда выдашь, я пощупаю у всей бригады пульс и измерю давление. Очень уж вы сегодня невыразительные.
– Буду буянить, Роберт Иванович, – предупредил Дима. – По просьбе медицины и экипажа.
И, немного помедлив, начал декламировать:
Жизнь вершится яро,
круто –
был стремительный разбег.
День расписан по минутам.
Что тут скажешь?..
Век как век!
Сплю с часами под подушкой,
с телефоном под рукой.
И признаюсь вам:
не нужно
жизни никакой другой!
В этом звоне,
в этом громе
наступающего дня
никаких желаний,
кроме –
быть на линии огня.
– Ну как? – спросил он. – Угодил?
– Да, – сказал Саша, бросив быстрый взгляд на Лешу, который по-прежнему отрешенно сидел в кресле, ни на что не реагируя. – Это именно то. Спасибо… Теперь слово за доктором. Но, может, Роберт Иванович, не будем, а? И так все ясно.
– Нет, мужики, – усмехнулся седовласый, средних лет, мощного атлетического сложения врач. – Давай, Сергеев, подсаживайся. Я и так грех на душу взял: целых полчаса отпустил вам на лирику и утряску пустынных впечатлений.
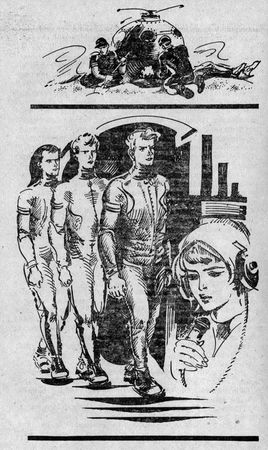
Доктор занимался классической борьбой, и Саня всегда побаивался, что, измеряя давление или пульс, врач может нечаянно сломать пациенту руку, но здоровяк удивительно мягко касался запястья своими могучими, пудовыми ладонями, широко улыбался пухлыми губами, и такая спокойная, исцеляющая доброта исходила от него, что на душе невольно становилось светло и безоблачно. Однако на этот раз, когда отчаянный небожитель, сняв спортивную куртку, подсел к выдвижному столику, Роберт Иванович не улыбнулся.
– Роберт Иванович, – весело спросил Саня, чтобы разрядить атмосферу. – Вы – консерватор?
– Откуда ты взял? – добродушно удивился врач.
– Пользуетесь древними методами. Электронный счетчик пульса отвергаете.
– А… бибикалка… На что она мне? Бип-бип – параметр есть, а человека не видно. Не-ет, по старинке надежнее. Вот держу я сейчас твою руку и ощущаю: пульс идеальный, шестьдесят четыре, а наполнение слабое. И я говорю себе: мой пациент, конечно, здоров, но слегка утомлен. Денек отдыха на лоне природы и хороший сон ему явно не помешают.
– Вы провидец, Роберт Иванович.
– Поживешь с мое, Сергеев, и ты провидцем станешь. Давай-ка давление измерим. Сначала на правой, потом на левой руке. Видишь… Я был прав. Твое нормальное и постоянное давление – сто двадцать на семьдесят. А у тебя сейчас… сто пять на семьдесят. Учитывая твой возраст, совсем юный, как подозреваю, полчаса передышки, которую я вам любезно организовал, и сеанс психотерапии, успешно проведенный Дмитрием Петровичем…
– Что, доктор?
– Гм… Учитывая все вышеизложенное, констатирую: пустыню ты перенес не блестяще. Не блестяще, Сергеев. Догадываюсь, держался на одной воле. Детальное обследование на месте покажет, насколько оправданы консервативные методы в медицине.
– Роберт Иванович! – взмолился Саня. – Побойтесь бога. Я в отличной форме!
– Конечно, дружище, в отличной.
– Зачем тогда стационар? Это же целые сутки, вычеркнутые из жизни!.. Ребята уже мысленно греются у домашнего очага, настроились на встречу с близкими… Пощадите, Роберт Иванович!
– Разве я не понимаю, голубчик, – смутился здоровяк. – Но тут такое дело… – развязывая резиновый жгут, он почти вплотную наклонился к Саниному лицу, зашептал с жаром: – Ты, Сергеев, приготовься… Приготовься, говорю, к худшему.
Санино сердце подпрыгнуло и опустилось, спина покрылась липкой, холодной испариной, в голове зашумело. Пораженный, оглушенный, он начал о чем-то догадываться. Казалось, будто в самый неподходящий момент его неожиданно вышвырнули из вертолета без парашюта – два года ежедневной, изнурительной, каторжной работы, два долгих года сладостных надежд и томительного, изматывающего ожидания, два года бесконечных преодолений… шли насмарку. Добрый доктор резал по живому, и некий внутренний маятник уже со скрипом отсчитывал последние секунды жизни. Но они еще были, эти секунды, они принадлежали ему…
– Роберт Иванович, – не слыша собственных слов, хрипло сказал он. – Пятьдесят шесть по Цельсию кое-что значит. Для тех, конечно, кто через это прошел…
– Да не о тебе лично речь, Сергеев, – страдальчески морщась, прервал доктор. – Экипаж могут расформировать. Или дублеров вперед пустят.
– Э-кипаж? – кровь ударила в голову. – Алексей? – спросил Саня непослушными губами, начиная догадываться. – Лешка?!
Доктор кивнул, опуская глаза:
– Дай бог, конечно, чтоб не подтвердилось. Но у меня глаз наметанный. Твой товарищ, Сергеев, гм… на волоске. Я, собственно, только из-за него и дал вам полчаса передышки. Говорю пока тебе одному, понял?
– Леша с третьего класса не переносит жару, – механически, чувствуя полное опустошение, сказал Саня. – Но держался молодцом. Наравне со всеми. Роберт Иванович… нельзя ли что-нибудь сделать? Как-то помочь?
– Чем же тут поможешь, дружище, если на нем лица нет? – вздохнул здоровяк. – Ни кровинушки… Не знаю… Может, еще обойдется… Ну-с, голубчик, – повторил громче. – С вами разобрались, можете отдыхать… Дмитрий Петрович, прошу к барьеру.
Опустив голову, не глядя по сторонам, Саня направился к своему креслу, спиной ощущая молчаливые, сочувствующие взгляды спасателей, но на полпути передумал и пошел дальше, к Алексею, который все так же отрешенно сидел, закрыв глаза, в конце салона и, казалось, спал. Лицо товарища действительно было бледным, пепельно-серым, он не пошевелился, не посмотрел в Санину сторону, когда тот пристроился рядом.
– Ты, Сань, не переживай, – устало, не открывая глаз, сказал Леша. – Зачем переживать?.. Я чувствовал, что так обернется… Еще тогда, когда ты… позвонил и приказал… быстренько собираться. Ладно… Как сказал поэт, не надо плакать, лучше… пойте песни, когда меня… не станет на земле.
Слова не нужны. Слова фальшивы. И Саня промолчал.
Впервые в жизни Александр Сергеев, сын летчика-испытателя Андрея Сергеева, ничем не мог помочь другу, оказавшемуся в беде.
Глава девятая
ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС
Все случалось за двадцать лет в отряде советских космонавтов: крепкие, здоровые парни, неудачно приземлившись на тренировке с парашютом, ломали ноги, на теле от многократных перегрузок появлялись крошечные кровоизлияния – петехии, отказывал вестибулярный аппарат… Травмы, ушибы, растяжения, срывы – оборотная сторона тяжелой, жесткой подготовки,- видимо, были такой же неотъемлемой частью их профессии, как и огромное трудолюбие, преданность делу, постоянная готовность пойти на риск. И хотя специалисты тщательно разрабатывали меры профилактики, стараясь предусмотреть все мыслимые и немыслимые опасности, подстерегающие в пути уходящих к звездам, абсолютно все предвидеть не мог никто.
У Алексея в одночасье рушились мечты, надежды, и он лежал в отдельной палате госпиталя, устремив немигающий взгляд в светлый проем распахнутого окна, за которым, покачиваясь на ветру, перешептывались березы, разливчато, звонкоголосо пели птицы, по синему океану неба бесшумно скользили белые парусники. Но Алексей не слышал волшебных звуков природы, не видел цветомузыки погожего летнего дня. Какая-то странная пустота образовалась в нем, любовь, ненависть, страсти перегорели, одухотворение иссякло, он ощущал только свое бренное, неподвижное тело. Доктор не ошибся в формулировке приговора: Леша… висел на волоске… Его болезнь звучала по латыни длинно, загадочно и привлекательно, в переводе на нормальный человеческий язык обозначалась двумя короткими, ужасающими своей прямотой словами – глубокая депрессия. Угнетенное, подавленное, тоскливое состояние. Все это скороговоркой, на ходу объяснил Сане и Диме юркий, подвижный старичок в белом халате, давая понять, что ситуация предельно ясна, заторможенность движений – это отсутствие реакции, отсутствие реакции – смерть для космонавта, посылать молодого парня на верную смерть никто не будет, следовательно…
– Следовательно, – с ядовитой горечью продолжил Дима, – такого не может быть, потому что быть не может.
– Истинно верно! – с неподдельной радостью, словно встретил в дремучем лесу единомышленника, воскликнул, не выговаривая букву "р" старичок. – С космонавтикой вашему юному коллеге придется расстаться. Конечно, его судьбу решать специальной комиссии, но меня пригласили проконсультировать, и я высказал свое мнение. И поверьте, молодые люди, мнение профессора Хмырьева, – он поднял кверху указательный палец с чернильным пятном, – мнение профессора Хмырьева кое-что значит. Да-с… Желаю здравствовать.
– Прощайте, профессор, – не скрывая печали, сказал Саня, пытаясь вспомнить, где, когда, при каких обстоятельствах уже видел этот победно-торжествующе заостренный указательный палец, и вдруг похолодел: "пташечка"! Перед ним стоял "пташечка", правда, в другом обличье, говорил другие слова, но суть была та же, и в ушах, разрывая перепонки, звенело давно забытое прошлое: "Да я вас!… Старшему по званию!.. Мой авторитет!.. За такие штучки!.." – казалось, "пташечка" немедленно растерзает старлея доблестных ВВС. "За свои штучки я отвечу, – спокойно отрезал тогда Саня. – Но не раньше, чем вы извинитесь перед девушкой, которую оскорбили!" – "Сумасшедший! – закричал в истерике "пташечка". – Я? Извиняться? Перед вашей сопливой девчонкой?! Он сумасшедший!" – И вот в ту минуту палец с чернильным пятном, словно ствол пистолета, уперся в Саню, а затем победно подскочил вверх. Саня наконец понял, кто именно подписал Леше окончательный приговор. – Прощайте, профессор, – повторил он сухо и корректно.
– Ха-ха… Прощайте… Лучше было бы сказать – до скорого свиданьица, – мелко затряслась, удаляясь, торжествующая "пташечка".
– Скотина, – процедил сквозь стиснутые зубы Дима. – И вот такие… такие…
– Ладно, Димыч, – сдерживая раздражение, – сказал Саня. – Не место и не время. – Надо что-то делать…
– Пойдем на Лешу еще раз посмотрим.