6. Критика дизайна составляет особый теоретико-идеологический уровень дизайна (здесь мы можем говорить об идеологии дизайна в отличие от суммы норм, образующих идеологию дизайнера) в значительной степени сохраняющий свою автономность от сложности дизайнерской практики. На этом уровне до сих пор конструируются частные авторские "дизайны", в том числе обладающий особой притягательной силой "очищенный" дизайн. Богатство проектной практики дизайна и его идеологических интерпретаций позволяет здесь формировать большое количество параллельных представлений о необходимом дизайне. Мы можем без труда увидеть, что организация действительной дизайнерской практики, формирование дифференцированных идеологий дизайнера не находят своего отражения, своей развернутой интерпретации на уровне теоретических "дизайнов".
Постоянное смешение теоретического дизайна (дизайнов), идеологического представления о дизайне (дизайнах), собственно профессиональных художественно-проектных аспектов деятельности дизайнера и, наконец, действительного существа дизайна в целом как социального явления, приводит к тому, что вместо знания о дизайне все шире развертываются различные его мифологические реконструкции. Любопытно, что представления о дизайне подверглись в этом отношении минимальным сдвигам за несколько десятилетий. На примере довоенных материалов, когда слово "дизайн" употреблялось гораздо чаще в будущем времени, чем в настоящем, мы можем увидеть то же разнообразие "будущих дизайнов", что и в литературе 60-х годов, а сопоставление материалов, разделенных тремя десятилетиями, показывает их внутреннюю идентичность (в подходах) при всех внешних различиях.
"Причина, по которой вещи недостаточно хороши, причина, по которой хороший дизайн не приносит дивидендов промышленникам, заключается просто в том, что мы не знаем, что является хорошим. Дизайнер вещей для масс должен избавиться от слабости – думать, что художник в нем отличает его от других людей. Он должен быть заурядным человеком, безусловно заурядным человеком, научившимся своей профессии. Иначе его работы могут нравиться ему, но не нравиться никому другому, кроме, может быть, нескольких снобов". Единственно, что отличает это высказывание середины 1930-х годов от высказываний сегодняшнего дня (в этой традиции), заключается в том, что сегодня дизайнеры понимают, что достаточно войти в роль заурядного человека, чтобы решить ту же задачу. "Сейчас потребитель больше разбирается и придает большее значение качеству продукции и дизайну... Благодаря своей подготовке, мастерству и профессиональному чутью он может создать гораздо более тесную связь между формой продукта и потребностью потребителя. Он действительно является представителем потребителя на производстве". Ничто не отличает по существу эту речь 1963 года от статей 1935 года. И в том и в другом случае дизайнер выступает как исполнитель воли потребителя, и это является его единственной общественно и профессионально значимой задачей, в этой постановке вопроса фактически не может возникнуть конфликтных ситуаций.
Интересно сопоставить выражение иной точки зрения на дизайн за те же тридцать лет: "Я думаю, что мы находимся в начале чудесного периода – самые проблемы, которые стоят перед нами, должны стимулировать наше творчество, и как только позиция дизайна стабилизируется, а вклад художника в промышленность станет общепризнанным, творческий импульс снова освободится, чтобы засыпать мир красивыми вещами". "Я не могу себе представить большего кошмара а ля Кафка, чем попытки дизайнера пробить свои концепции хорошей общественной застройки, транспорта или безопасной и удобной упаковки сквозь безличную бюрократию нашей городской, штатной или федеральной администрации. Дизайнеры, которые не могут найти поручителей за их идеи, не просто одиноки в своих моральных обязательствах. Они просто остаются без работы".
И в первом (оптимистическом) и во втором (пессимистическом) случае оба высказывания выражают одну и ту же систему взглядов, актуально значимую в среде профессиональных дизайнеров и усиленную авторскими вариантами "очищенного" дизайна. Согласно этой точке зрения дизайн (именно дизайн вообще, а не просто индивидуальный дизайнер) должен решать собственные задачи на благо "общества" или "действительного человека", сформированного согласно эстетическому (мир красивых вещей) или функциональному, утилитарному (хороший дизайн) идеалу. В этом случае дизайнер отказывается, по крайней мере хочет отказаться от прямого выполнения кем-то определенных запросов конкретного потребителя, сильно отличающегося в своих характеристиках от "действительного человека" как обобщенной абстракции.
** * Из всего материала, бегло рассмотренного в данной главе, неумолимо следует, что получить действительное знание о современном западном дизайне как явлении исходя из разнородного практического материала, включая в него и разные уровни теоретического осмысления дизайна, не представляется возможным. Этот материал по своей насыщенности, казалось бы, сам по себе достаточен для определения дизайна, включающего в себя все рассмотренные противоречия. Однако это не так. Значит, знания этого материала недостаточно – авторские "дизайны" возникают не за счет привлечения принципиально инородного материала, а лишь за счет пренебрежения частью этого материала, как "не имеющей существенного значения". Оказывается, что главным содержанием авторских "дизайнов" является не собственно материал дизайна и даже не его интерпретация, а принципиальные мировоззренческие (мироощущенческие в каких-то случаях) позиции, привносимые авторами в материал дизайна. Представление о необходимом дизайне замещает анализ действительного дизайна в его многообразии.
Для того чтобы определить, а не просто назвать социальную детерминированность современных организационных форм дизайна, уточнить, в каких формах он осуществляет интересы господствующего класса, нужно подняться на следующую ступень анализа интересующего нас явления. В связи с этим у нас есть единственная возможность найти общую интерпретацию всему рассмотренному материалу – выйти из узкой проблематики дизайна, от рассмотрения дизайна изнутри или глазами людей, рассматривающих дизайн изнутри, перейти к анализу дизайна извне. Для того чтобы понять внутреннюю сущность дизайна (не дизайнерской творческой деятельности – мы все время подчеркиваем это различие), необходимо рассмотреть дизайн как элемент определенной социальной системы, связанный с иными ее элементами через общий характер современной западной цивилизации. Это сложная работа, которая не может, естественно, быть подробно изложена в этой книге. Следующая глава является уже результатом проделанной теоретической работы по определению социальной функции дизайна, в связи с этим есть возможность не рассматривать средства достижения выводов, а попытаться собрать общую мозаику причин и следствий, без чего невозможно понять характер западного дизайна. Только таким образом мы можем ответить на элементарный по существу своему и довольно трудный по технике решения вопрос: что же является продуктом дизайна как сферы деятельности профессионалов художественного проектирования, а не продуктом работы конкретного дизайнера в конкретном случае. Ответ на этот вопрос означает автоматически ответ на вопрос, что такое современный западный дизайн, и несколько помогает искать ответ на вопрос, что же такое дизайнерская деятельность в системе дизайна.
Следует признать, что теперь, когда мы окунулись в общие для мира правила, эта логика не утратила силы, хотя автором и его коллегами двигала тогда уверенность в том, что использование этой логики позволит сформировать "правильный" дизайн, не копируя прямо западные образцы деятельности, а продвигая новые. Еще раз подчеркнем, что сугубо теоретически и впрямь плановая система экономики открывает возможность навязать производству правила игры в ориентации на потребителя. Иное дело, что эта плановая система была, во-первых, неотрывна от политической монополии, а во-вторых, эта монополия в отношении производства была чистой иллюзией. Реальное производство отстраивалась не от общественных интересов – как бы те ни формулировались, а от интересов ведомств, которые обрели новое дыхание после ликвидации хрущевских совнархозов. Более того, с середины 60-х годов все более нарастала милитаризация промышленности, так что производство бытовых товаров имело характер политически навязанной нагрузки. Какой-нибудь Бердский военный завод, не мудрствуя лукаво (Советский Союз игнорировал авторское право), разбирал электробритву "Браун" и изготовлял очень похожее изделие, у которого исправно работал моторчик, но металл для сетки категорически не соответствовал требованиям к нему. Аналогичным образом рождались трактора, и точно так же в них применялся совершенно негодный к делу материал. В этих условиях становление дизайна оказалось никому не нужным, что, однако, не мешало существованию ВНИИ технической эстетики и его филиалов под эгидой Госкомитета по науке и технике. Главный продукт ВНИИТЭ – такси со скользящей вдоль борта дверцей, разработанное под руководством Долматовского, так и осталось в единственном экземпляре, хотя успешно было обкатано на московских улицах. Госкомитет был вполне удовлетворен тем, что ВНИИТЭ исправно представлял отчеты, заодно выполняя отделку кабинета для комитетского руководства.
Глава 4
Дизайн как он есть
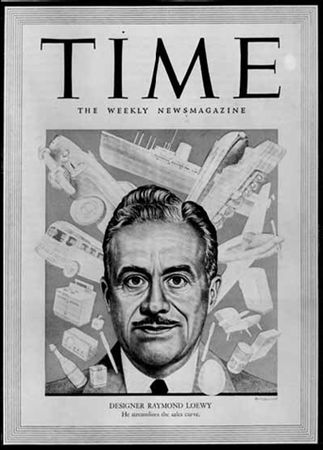
Рассматривая различные авторские концепции дизайна, мы столкнулись с сугубо академической постановкой проблем, когда в центре внимания автора оказываются попытки дать однозначный ответ на сакраментальный вопрос: что такое дизайн? Но ни в одной из разобранных нами концепций в качестве реального предмета исследования не выступает действительный дизайн как элемент социальной практики.
Когда вещь "естественно" полагается продуктом дизайна, неизбежно следует внеисторическая и внесоциологическая постановка вопроса о дизайне, при этом самые хитроумные определения дизайна типа принятого семинаром в Брюгге (см. вводную главу) в конечном счете сводятся к утверждению, что дизайн – это деятельность дизайнеров, это все, что они делают. Перед нами возникает довольно сложная задача – используя весь рассмотренный выше материал, попытаться определить дизайн как целое, как единую службу через ее функции в общественном механизме и уже после этого переходить к дальнейшей конкретизации. Очевидно, что такое определение возможно только в том случае, если нам удастся определить собственный продукт дизайна как сферы профессиональной деятельности, тогда определение продукта станет и обобщенным определением функции. Когда мы говорим о науке (не конкретной науке: физике, химии или биологии, а науке как сфере деятельности), то ее продукт определяется несложно – это знания, знания как таковые. Когда мы говорим об искусстве как целостной сфере деятельности, определить ее суммарный продукт значительно сложнее, и по этому поводу вовсе нет желаемой ясности. Самое простое определение продукта деятельности в искусстве – произведение искусства своей тавтологичностью мало кого может удовлетворить. Все попытки раскрыть это определение через определение особого рода коммуникации между людьми, осуществляемой посредством искусства, по крайней мере спорны. Довольно просто определить инженерию как целостную сферу деятельности, продуктом которой являются технические системы, выполняющие назначенные человеком функции.
Проблема осталась. Пока мы имеем дело с прямо опредмеченной деятельностью, есть ясность и, скажем, понятно, что продуктом системы здравоохранения является сумма здоровья населения, тогда как вокруг определения продукта системы образования продолжаются ожесточенные споры: личность, гражданин, стандартный комплекс умений? В зависимости от выбора ответа отстраивается вся система, включая модель педагогического процесса.
Как определить продукт дизайна, если не прибегать к попыткам вывести его по аналогии с наукой, искусством или инженерией? Сложность заключается в том, что в роли продуктов дизайна выступают предельно разные объекты: машины, станки, различные технические устройства, товары широкого потребления, упаковка, промышленные интерьеры и выставочные экспозиции, наконец, особые виды услуг, включая стайлинг кандидата на выборах. Эта сложность ставила и ставит в тупик западных исследователей дизайна, которые до настоящего времени не смогли выйти из непосредственного предметного плана рассмотрения эмпирии дизайнерской практики.
Итак, с одной стороны, в роли продукта дизайна выступает и анализируется вся вещь, но ведь вся вещь является продуктом суммарной производственной деятельности и как таковая оценивается и реализуется на рынке. Значит, продуктом дизайна полагаются определенные свойства вещи, привносимые дизайнером в ее создание – определение этих свойств через вещь оказывается неразрешимой проблемой: слишком различны вещи, несущие свойства, привнесенные дизайном, каковы бы они ни были. Следовательно, нужно найти ту единую плоскость, на которой оказываются в равной ситуации все самые разнообразные вещи, и тем легче, что эту плоскость нет необходимости строить искусственно, она реально существует. Все перечисленные выше объекты деятельности дизайнера (и все не перечисленные тоже) объединяет в полной мере только одно: все они используются в современной западной цивилизации, все они являются предметами потребления. Но ведь потребление не есть что-то однородное, оно обладает сложной внутренней структурой, которая зависит от конкретных социально-исторических условий, от характеристик людей, выступающих по отношению ко всей сумме вещей как их пользователи. Значит, проблема функции дизайна как сферы профессиональной деятельности разрешима только через человека в его конкретности, а не абстрактного человека "вообще", другой возможности не дано.
Дизайн как профессиональная деятельность художников-проектировщиков возник и оформился за последние несколько десятилетий, за это же время американизованная западная цивилизация претерпела ряд существенных внутренних изменений. Если действительная сущность капиталистического общества осталась той же самой, то формы ее проявления сегодня очень мало напоминают формы, общезначимые еще в первые послевоенные годы. Нам нужно оговорить одно существенное обстоятельство: необходимость раскрытия содержания организованной профессиональной деятельности через ее функционирование в определенной социальной системе не дает возможности непосредственно соотносить ее с классовой структурой общества – ответ в этом случае содержался бы уже априори в самой постановке вопроса. В самом деле, поскольку дизайн, как и всякая иная профессиональная деятельность, развивается в капиталистической системе антагонистических классов, финансируется непосредственно частным и государственным (в меньшей степени) капиталом, то естественно, что развитие этой профессиональной деятельности соответствует интересам господствующего класса. Однако подобная констатация никакого конкретизованного знания о социальной функции дизайна дать не может. Мы имеем основания утверждать, что поскольку дизайн – профессиональная деятельность, активно функционирующая во всех элементах структуры капиталистического производства и торговли, то его обобщенной функцией в системе товарного обращения должно быть неизбежно извлечение максимальной прибыли монополиями. Однако и такое определение не может увеличить нашего знания о методах и средствах реализации этой функции дизайна, не исключает возможности существования иных его функций.
Все же марксистская фразеология, не утратившая привлекательности для кафедр философии в Европе и США, сильно довлела над сознанием автора: разумеется, не индивидуальный персонаж имеется в виду под человеком в его конкретности, а тот или иной тип, или страта, над исследованием которых социологи неустанно трудятся с переменным успехом. Давно уже принимается во внимание не только уровень дохода, но и уровень образованности, конфессиональные традиции, местные особенности. Необходимо, однако, иметь в виду, что социология только зарождалась полуофициальным образом, статистика же была закрыта настолько, что даже сведения о числе родившихся мальчиков и девочек считались государственной тайной. Впрочем, надо отметить, что автору в целом удалось вывернуться из деликатной ситуации.
После окончания депрессии, вызванной кризисом 1929–1933 годов, и особенно в послевоенный период внутренний товарный рынок необычайно расширился, охватывая активным потреблением почти все слои населения, и одновременно чрезвычайно дифференцировался. В результате практического внедрения достижений научно-технического прогресса изменилась товарная масса: в недавнем прошлом предметы роскоши – коттеджи, трейлеры, автомобили, холодильники, радио и телевизоры – становятся стандартными товарами на массовом рынке. Благодаря стихийно (и отчасти направленно) изменяющимся социальным стандартам и направленной рекламе эти товары становятся предметами первой необходимости, по крайней мере воспринимаются абсолютным большинством как предметы первой необходимости. Необходимость компенсировать колоссальные капиталовложения (технический прогресс вызывает резкое удорожание всякой перестройки производства) вызвала к жизни розничную торговлю по низким ценам. Отклонения в розничных ценах являются минимальными, основной формой продажи потребительских товаров (за наличный расчет и прежде всего в кредит) становятся супермаркеты, дающие клиенту максимальную свободу выбора в заданном диапазоне продукции. Естественно, что внешние качества продукции приобретают в этом случае особое значение, аналогичную свободу выбора дает потребителю развивающаяся в США быстрыми темпами торговля по почте. Аналогично основной формой заключения контрактов в машиностроении, химической или электронной промышленности становятся "супермаркеты" национальных и международных выставок или ярмарок. В этих условиях стало жизненно необходимым создание особого механизма конкурентной борьбы, обеспечивающего максимальную прибыль с минимальным риском.
Кризис 1929 года произвел решительный переворот в профессиональном мышлении технократической верхушки управления промышленных корпораций. Авантюризм неограниченного производства случайных моделей промышленной продукции уступает место расчетливому соразмерению условий рынка и объемов производства с номенклатурой изделий. Крах просперити 1920-х годов, разочарование в старых средствах непрерывной экспансии привели к интенсивным поискам способов стабилизации. В этой обстановке формировалась все более популярная в США и распространяющаяся сейчас на Западную Европу концепция "могущественного потребителя". Эта концепция находит наиболее яркое выражение в работах американского социолога и экономиста Джорджа Катоны, и хотя ее научная ценность весьма ограниченна, но безотносительно к истинности или ложности отдельных положений эта концепция входит в сферу современной технократической идеологии, в формирование ее потребительской ориентации.